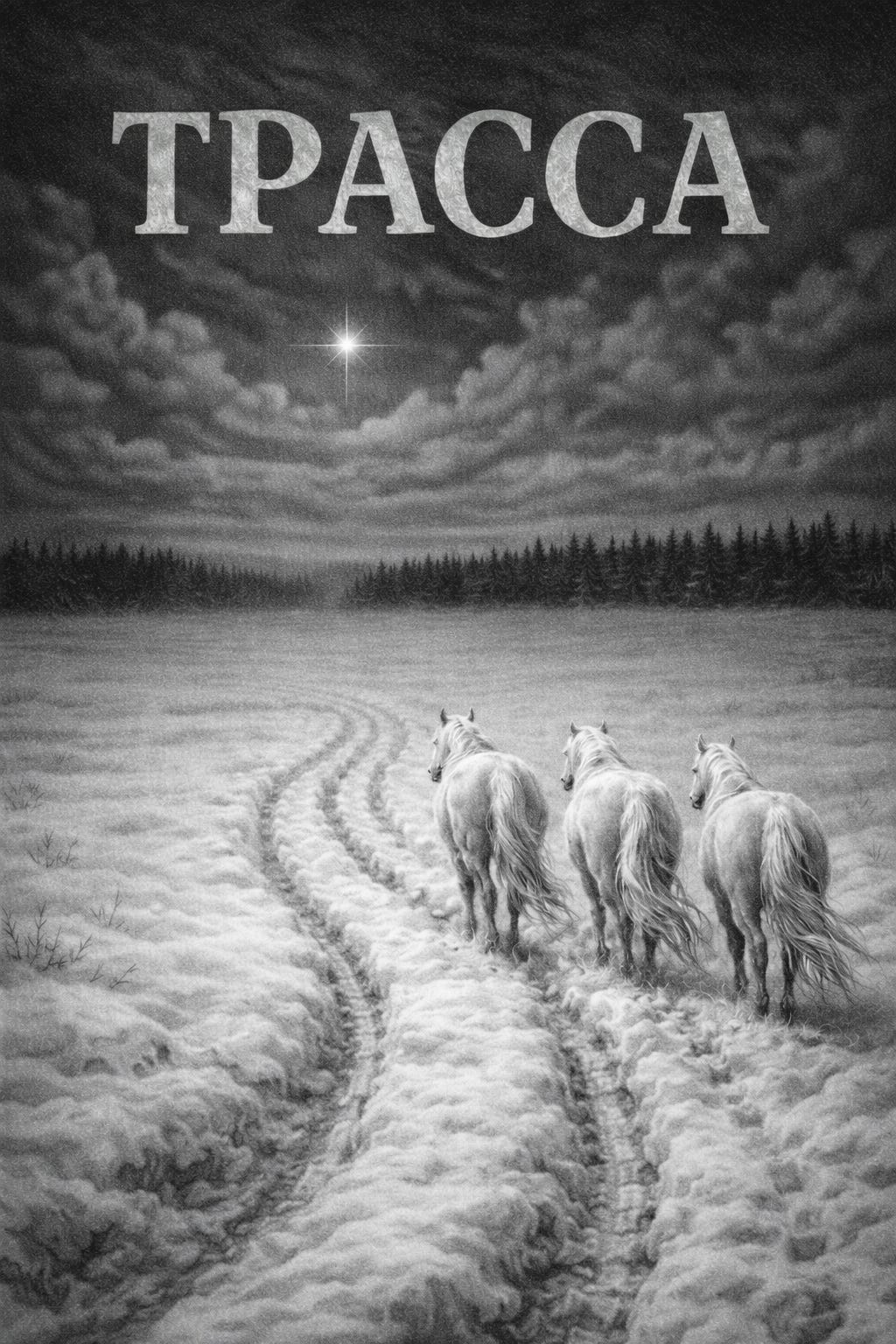Трасса
повесть в пяти картинах
«— Ты думаешь о том, в какой мир тебе предстоит вернуться?
— Я думаю о каплях воды»
Дон Делилло, «Ноль К»
Картина первая
«Калипсо»
«Всякий раз, как я замечаю угрюмые складки в углах своего рта; всякий раз, как в душе у меня воцаряется промозглый, дождливый ноябрь; всякий раз, как я ловлю себя на том, что начал останавливаться перед вывесками гробовщиков и пристраиваться в хвосте каждой встречной похоронной процессии… я понимаю, что мне пора отправляться в плавание, и как можно скорее. Это заменяет мне пулю и пистолет».
Герман Мелвилл, «Моби Дик»
- 1 -
Один повесившийся американец как-то написал, что Бог говорит и действует целиком через людей, если Бог вообще есть. Поэтому хватит кривляться и заигрывать с псевдонимами. Больше никаких масок и комиксовых супергероев в обтягивающих яйца трико. Только правда-матка, только хардкор. Слишком патетично, скажете вы. Хах, пожалуй. Топаем дальше. Меня зовут Марк Супербродяга, и я покинул дом, чтобы увидеть мир. Какое-то тупое выдуманное имя, скажете вы. Ни хрена, так уж меня назвали — Марк. Конечно, моя фамилия не Супербродяга, но и эти записки — не задротский рапорт в казарменном стиле.
Вы когда-нибудь слышали про Александра Супербродягу? Рассказываю: пацан из обеспеченной калифорнийской семьи чутка ударился головой, разорвал паспорт и двинул по Америке автостопом. Без денег, но с мечтой. Он воображал себя кем-то вроде Одиссея, с той разницей, что Одиссей возвращался домой, на Итаку, к любящей Пенелопе и возмужавшему Телемаху, а наш пацан натурально сбежал от родного порога. Да, побег в чистом виде. И знаете, я его понимаю — наш век, возможно, то и отличает, что слово «дом» подверглось инфляции. Нам есть куда вернуться, но зачем? Там лишь скука и паутина по углам.
Вообразите себе картину. На Итаке вместо утонченных греков поселились странные мужики с идеями о мировой империи от окияна до окияна; потом, значит, крест, византийские порядки, классовая борьба, химзавод, ядерные ракеты, старость, усталость, радикулит. Вместо смоковниц на взморье нынче торчат облезлые рога ЛЭП, а уютный галечный пляж, где когда-то набирался сил ловкий Телемах, отвели под отстойник химзавода (который, понятно, лет двадцать как закрыт, но все еще отравляет грунтовые воды ядом, получаемым из причудливых сочетаний редких элементов таблицы Менделеева). Пенелопу переименовали в Родину-мать, залили бетоном и водрузили на самую высокую точку острова, с тем чтобы насаждать среди аборигенов правильное единобожие. Про Одиссея давно забыли, его больше не ждут. Ходят слухи, что одно время он маскарадничал в образе вождя мирового пролетариата, но потом ему надоело, и он отправился дальше. Или подальше: от химзавода, угрюмых проповедников принудительного счастья и тотального равенства, начинающегося со слова «народ».
Однажды утром я представил все это, после чего сомнения отпали сами собой. Я рывком сорвал замусоленные простыни, сел на край койки, утер испарину краем наволочки, навестил клозет, побросал шмотки в рюкзак и был таков. Больше меня на Итаке не видели. Хочу заострить ваше внимание — я пишу эти записки для себя, но посвящаю их главному беглецу современности, Супербродяге из девяностых. То был смелый пацан, он прочухал главный подвох нашего мира, и я хочу быть достойным его памяти.
Скажу еще об одной важной фишке — в этом тексте я не буду ругаться матом, я и так понятен любому дегенерату, как пел Вася Вэ из «Кирпичей». Причина покажется вам глупой, наивной, вы можете заподозрить нарочитость, издевку. Так вот: я маме обещал. Да, я сказал матери, что буду вести что-то типа дневника. Она мне: «Дашь почитать?» И как, блин, отказать маме? Конечно, мам, не вопрос. А про себя думаю: «Придется чутка возвысить стиль, ведь слова на “х” и “б” она вряд ли одобрит». Поэтому не обессудьте, матерные вольности нынче за скобками. Знаю, вы ребята с воображением, додумаете сами.
Так, с главным мы, кажись, разобрались, теперь о погоде. Два факта: 1) жарит не по-детски; 2) я сижу на обочине Памирского тракта. Идея фикс Александра Супербродяги — Аляска, но я родился и вырос в Сибири, мне эти снега и медведи еще в пеленках засели в печенках. Горы — другое дело, поэтому: Памир, долина реки Пяндж, две с половиной тысячи метров над уровнем моря. Под ногами Таджикистан, его пыльные желтые камни в протекторе моего правого ботинка — чувствую один такой камень, он перекатывается по грунту с легким похрустыванием. Вслушиваюсь в эти простые звуки; я и сам прост, молод, закопчен, с налетом тех сотен километров, что уже пройдены по России, Казахстану, Киргизии.
Я не знаю, где конечный пункт моего странствия. Одни бродяги возвращаются домой, другие бегут к горизонту. Я из последних. Говорят, за горизонтом ничего нет. Только беспощадный Solar, сжигающий смазку в подшипниках икаровского крыла. Сын Дедала рухнет, но значит ли это, что не стоило взлетать? Не думаю. А думаю я о конкретных вещах: как бы не выхватить тепловой удар; как бы добраться до Калаи-Хумба — есть такой городок в местечке, где Обихумбоу кормит яростный поток Пянджа, на стрелке рек.
Позади другие чудные места: Аликуш, Мургаб, Хорог. Эти названия — словно заклинания в пахнущей пряностями восточной книге сказок. Я мысленно вывожу их алыми чернилами на хрустящем пергаменте. Книга заключена в переплет, чьи стальные застежки тускло поблескивают в переменчивом свете моего воображения. Позади перевалы Кызыл-Арт и Акбайтал, черное озеро Каракуль, плоскогорья с потрескавшейся землей, без единого клочка травы — эти долины смерти Восточного Памира. Но сегодня мне нужно в Калаи-Хумб. Это моя цель.
Я вышел на трассу до первого света зари, молчание было у меня снаружи, молчание и внутри. С тех пор минуло немало часов бесплодного ожидания. Машины здесь ездят редко, а те, что попадаются, идут с диким перегрузом. Запоминающаяся черта околоафриканских по уровню жизни стран — любой транспорт используется как общественный. Люди едут из кишлака в кишлак, на лицах печать вековой покорности, глаза неподвижны. Иногда мне кажется, что в этих глазах отражается текучая вода, но чаще — ничто.
Солнце висит прямо над головой. Гарь обочин, рокот Пянджа. Мне жарко, хочется пить. Однако я спокоен. Мои кости давно впитали закон трассы: выйди на обочину, подними руку и попадешь туда, куда хочешь. Из закона нет исключений, как нет дороги, по которой нельзя уехать автостопом. Главное — запастись выдержкой. Трасса не любит спешки, трусости, вранья. Будь с ней честен, и она не подведет. Знаю, звучит как гротескное сектантское учение. Следом должно быть что-то про растирание висков дорожной пылью и омовения в моче горного козла на 666-м километре. Смех смехом, но на трассе нельзя не быть суеверным, немного язычником. Не загонять себя в стойло, смиряясь с властью незримых сил, управляющих миром. Не поднимать взор к Вечному синему небу, где обитают насмешливые духи Тенгри.
Мое спокойствие пытаются поколебать стрелка наручных часов и чувство соперничества. Полдень: я проехал всего ничего, а до Калаи-Хумба еще больше сотни километров по серпантинам и прижимам. Вы поняли правильно — я путешествую не один. Сейчас мой компаньон где-то впереди, прорывается по трассе, терпеливый, как апостол. Он такой же, как я, но не я. Лучше, чище, смелее. Вчера он вырвался вперед, и сегодня мне нужно его догнать, ведь мы договорились состыковаться именно в Калаи-Хумбе, на перекрестке дорог (нужная ведет в большой город Куляб, к границам горного Бадахшана, и дальше, в дымчатые, заполненные миражами оазисы Душанбе).
Я помню нашу беседу среди кочующих песков Иссык-Куля. Бледный диск опускался в холодную магму; на пиках Тянь-Шаня снег сочился кровью; короткий день отлетал с бередящими порывами октябрьского ветра.
Компаньон рассказывал историю:
— Просыпаешься в совершенно незнакомом месте, видишь реку. Тоже незнакомую. Решаешь плыть, но лишь смутно догадываешься, почему, зачем плывешь. Вокруг только вода. Не знаешь, есть ли дно, и впадает ли река в море. Не знаешь даже, что на другом берегу, ведь берег скрыт в тумане. Затем попадаешь на отмель, но течение влечет дальше. Пути назад нет.
— И?
— Что мы знаем? Только то, что умеем плавать.
— И?!
— Так плыви дальше, идиот!
Компаньон хранил много странных историй. Он умел рассказывать, я — слушать. Теперь его нет, он исчез в мареве поворота, оставив меня с пейзажем, где все знакомо, но непрочно, как дым. Где камни рассыпаются в руках, и течет вода, унося все, что люди считают святым. Компаньон исчез, а я этого и не заметил. Теперь мне нужно его догнать, нужно в Калаи-Хумб. Машины не едут, я один в ущелье, воздух дремлет на прибрежных валунах. Шум в голове.
- 2 -
«Калаи-Хумб», «Калаи-Хумб», «Калаи-Хумб...» — шепчут мои обветренные губы. Я повторяю название, и чем дальше, тем меньше в нем смысла. Слово распадается на отдельные звуки; каждое «а» тянется дольше «у»; согласные трутся о небо, вскоре остаются только протяжные гласные. Повторяю их снова и снова: «а-ааа-аа», «у-уу», «а-ааа-аа». Мычание осла. Своего рода молитва.
Я запрокидываю голову и вижу, как солнце бредет к западу. Воздух наливается золотом, еще немного, и дневной свет начнет угасать, его поглотит стена ущелья, врастающая в небо на добрых полтора километра. Я начинаю забывать места, из которых приехал. Ущелье не имеет начала и конца, я попал в него из другого, похожего, и после будет еще одно — свет там будет падать под иным углом, но это меня не обманет. Королевство кривых зеркал, восточная сказка, пахнущая не только пряностями, но и страхом. Клаустрофобия. Разряженный воздух. Горная болезнь.
Не так давно я ехал вдоль реки в кабине грузовика. Еще несколько верст навстречу волшебному граду, еще один молчаливый человек с птичьим носом и смоляными бровями — он не спрашивал, а я не отвечал: дорога красноречива сама по себе. Порой извилистая грунтовка прижималась к реке вплотную. Массивная тень большегруза гнала перед собой грязно-коричневые гребешки узких волн. Мотор тужился на подъемах, его хриплый вой сливался с рыком Пянджа. Смесь из потрескиваний, скрежетов, гула и аритмичного барабанного боя, угнетающего перепонки. Напев, который не забыть.
Я помню женщин: сидят на противоположном берегу, полощут белье в спокойных заводях, с ног до головы закутаны в черное, лица скрыты платками. Я различаю плавные движения пальцев, монотонно перебирающих складки набухшей от влаги одежды. Вот одна из женщин встает, под угольным покровом угадывается крутой изгиб спины — он повествует о характере и подспудной, затаенной силе. Женщина смотрит на наш берег, ее тень ложится ровно, покрывая несколько человеческих ростов. Мои глаза слезятся от внезапного сполоха: возможно, это солнечный блик отразился от переката; возможно, это отсвет чуждого мира, на мгновение вырвавшись из узилища чадры, хлестнул по глазам кяфира. Слитный голос реки и машины пересиливает прочие звуки, но мне чудится, что я слышу тихий разговор, медленно произнесенные фразы. Берега полны женщин, но совсем не видно мужчин. Кажется, мужчины ушли на войну. Кажется, женщины стирают белье и переговариваются цитатами из Священного писания. Кажется, их белье не перестирать и за тысячу лет... И вдруг понимаю: голову все-таки прилично напекло.
Бреду к реке, не разбирая дороги. Изможденное тело качает, тень коротка и выщерблена — я с тупой злобой топчу ее ногами. Отвешиваю себе оплеуху, делаю вдох и сую раскаленный череп прямо в пасть Пянджа. Морок срывает вместе с потом и жировой прослойкой. Матерюсь, фыркаю, растираю лицо водой, жадно глотаю живое, тягучее. Вот вам мой совет, ребятушки: всегда берите с собой кепку, а то не ровен час крышей протечь, как я сегодня. Мою-то кепи унесло ветром еще в Киргизии, на сумасшедшем перевале Талдык, где Алайский хребет стекает к поселку Сары-Таш у переднего края Памира. Места там, доложу я вам, за гранью понимания: марсианского вида долины, селения с плоскими крышами — строившие их люди не знали слова «дождь». Настоящее Чистилище.
Сажусь на камень, снимаю обувь, опускаю ступни в прохладный ток реки. Что бы сделали на моем месте герои? Одиссей показал бы фокус, что-то волшебное. Александр Супербродяга зачитал бы несколько утешительных строк из Льва Николаевича. А что же я? Лишь жалкий подражатель, сижу, расчесывая мозоли, и палюсь на проносящуюся сквозь пальцы воду.
Обрывистые стены ущелья, козьи тропы, редкие деревья, в чьей робкой тени ютятся разбросанные тут и там кишлаки. Люди, похожие на камни, и камни, похожие на птиц в небе; вон они — кружат полумесяцем над бурлящим перекатом. Твари, падальщики, безличные свидетели войны, что идет в этих горах веками. Ахейцы воевали с Троей десять лет — особая цифра, своего рода метафора вечности. Но что они понимали из своих юных дохристианских времен? Врастая в обыденность, война больше не кажется эсхатологическим пределом, и люди уже не хотят, чтобы она заканчивалась. Воюющая армия не стремится к победе: когда леденящий омут фронтовых сумерек пожрет эхо последнего выстрела, солдат распустят по домам, где им больше не будет места, как существам, отмеченным смертью. Кровь порождает кровь, а долгая война производит особый вид двуногих, подчиняющийся законам изнаночного мира. Падет враг, и эта армия начнет сражаться сама с собой. Троя сгорела, но ахейцы не перестали жечь, они лишь развернули копья и факелы: подальше от берегов Малой Азии, поближе к родному порогу — порогу, с которого сбежал Александр Супербродяга. И я сам.
Я долго бежал, но дороги, ведущие из империи страха, извилисты, они водят тебя кругами, как беднягу Эдипа, этого нечестивого слепца. Под моими ногами Таджикистан, на противоположном берегу реки — Афганистан. Воистину, царство Агамемнона, имманентное царство песка и крови. И разве есть в этом краю хоть кто-то, не впитавший с молоком матери предание о войне, посеянной до начала времен и продолжающейся, длящейся, тянущейся, словно тонкая красная линия, по дну этого бесконечно глубокого ущелья? War never changes.
- 3 -
Ребят, ну вы чувствуете, как жестко меня накрывает?! Это солнце, эта жара, эта высота, эта, это, то, се. Нестерпимо! Но я обещал маме, поэтому давайте все-таки обойдемся без грубостей. Вы и так поняли, о чем я.
— Э-эй, друг!
Прибрежные кусты раздвигаются, пропуская мужчину: он молод, даже юн, роста среднего, волосы коротко и неаккуратно острижены, лоб чуть завален, кожа темная и блестящая. За его спиной плетеный короб, полный каких-то плодов, в руках — продолговатый бидон.
— Ты зачэм здэсь?
Голос громкий, грудной. Как и все местные таджики, незнакомец тянет гласные, отчего звуки становятся мягкими, удлиненными, будто произнесенными нараспев.
— Машину жду, — коротко отвечаю я.
— Ка-акой машин?
— Который увезет меня отсюда. — Вынимаю ноги из воды, тянусь голой пяткой к лежащему поодаль ботинку. — А ты сам кто будешь?
— Я дом идти, нэдалэко. — Мужчина снимает поклажу и усаживается на корточки; смотрит снизу вверх, немного исподлобья. — Ты русский, да?
— Сибиряк.
К русским на трассе в ближнем зарубежье диаметральное отношение: или большая любовь, или горячая ненависть. Когда обитатели бывших имперских окраин слышат слово «Сибирь», для них это примерно то же самое, что «Северный полюс» или «Антарктида». Абстракция, что-то про далекие земли, где медведи ходят по улицам и едят прохожих. Подобное изъятие себя из русского контекста давно вошло у меня в привычку — это удобно, да и безопасно, особенно в глухих мусульманских регионах вроде Памира.
— Сэбы-ы-ырь, — собеседник вытягивает губы трубочкой и пропускает через них слово, как бы пробуя на вкус. — Далэкий, зима, да?
— Не без этого.
Шнурую ботинки. Пора сваливать. Разговоры с местными всегда бесплодны (если, вестимо, это не водитель, везущий тебя на точку). Такие разговоры даже вредны: сначала приходит один абрек, за ним другой, и вот вы оживлено беседуете на обочине, а редкие машины идут мимо, не останавливаясь. Базовое правило автостопщика — голосовать подальше от населенных пунктов и скоплений аборигенов.
— Пэй, а?
Мужчина откупоривает бидон; внутри что-то белое, подернутое жировой пленкой — молоко, понимаю я. Ругаюсь про себя (мама, прости), но от подношения не отказываюсь. Для горцев это оскорбление, ведь я на их земле, а значит — гость.
— Спасибо. — Молоко густое, пахучее, отдающее травой и свежим навозом; во рту остается солоноватый привкус — наверное, козье, ведь коров здесь не держат. А ведь хорошо. Возвращаю бидон и повторяю, на этот раз с искренним чувством: — Спасибо!
— Мой имя — Авлод. — Мужчина протягивает правую руку, а левой касается груди на уровне сердца, одновременно склоняя голову, что придает его позе несколько комичный вид. — Мой сэмья здэсь жить.
— Марк.
Ладонь у Авлода жаркая, шершавая, как нагретые солнцем стены пастушечьей мазанки.
— Кушать идэм, да?
Мой новый внезапный друг указывает на извив реки, где водный рукав уходит в сторону, образуя отмель: каменистая у берега, она чуть поднимается в своей удаленной части, переходя в тенистую рощу, скрытую между Памирским трактом и обрезом Пянджа.
— Извини, но мне ехать надо. — Пытаюсь обозначить приоритеты и упредить дальнейшее красноречие. — Меня ждут.
— Куда эхать? Зачэм?
— В Калаи-Хумб.
Моргает. В глазах — больших, влажных, непроницаемого оттенка — беспомощное выражение.
— Ка-ла-и-Хумб, — раздельно повторяю я. — Там! — тычу пальцем в направлении невидимого города. — Ехать надо!
— А-аа, — с пониманием кивает Авлод. — Ка-а-ай Хумбэ-э, да... — снова пропускает слово через вытянутые губы. — Ай, далэко... — прячет голову в ладонях, будто извиняясь. — Завтра эхать, сэгодня отдыхать.
— Спасибо, но нет. — Блин, да он к себе в кишлак зовет. Этого еще не хватало. — Ждут меня, ехать надо.
— Как эхать? Машин нэт у тэбя.
— Автостопом.
И снова это травоядное выражение в глазах.
— На попутках, — поясняю я. — С добрыми людьми, кому не впадлу.
— У нас люди хороший, да? — то ли спрашивает, то ли утверждает Авлод. — Добрый люди.
— Очень. Но мне реально пора.
— И как — бэрут тэбя? — Авлод кладет в рот былинку и перекатывает языком по нижней губе; заканчивать беседу он явно не собирается. — Дэнэг нэ просят?
— Нет, и угощают. — Делаю над собой усилие, изображая улыбку. — Хорошие люди, как ты.
Авлод удовлетворенно кивает:
— У нас в Бадахшон хороший люди, да. А стэпной таджик злой, плохой люди.
— Ага.
Развивать тему нравственных различий между жителями провинций Таджикистана не входит в мои планы. Солнце меж тем приближается к краю ущелья на афганской стороне. Скоро закат.
— Так, друг, — я протягиваю руку, — еще раз спасибо. Удачи!
В ответ Авлод вяло проводит по моей ладони, едва касаясь. Я разворачиваюсь и крупными шагами, чуть не бегом, устремляюсь к дороге. Ага, вот и знакомая выемка, которую я расковыривал весь день. Оставаться не вариант — кишлак слишком близко. Если голосовать здесь, рано или поздно притащится вся родня Авлода, и тогда от навязчивого горного гостеприимства уже не уклониться.
Стараясь не попасться на глаза близким — теперь я это чувствую — обитателям рощи, делаю пятьсот-семьсот шагов в направлении Калаи-Хумба. Уходить далеко тоже нет особого смысла — на своих двоих ущелье все равно не одолеть. Торможу за ближайшим поворотом, у истока зернистой прямой, теряющейся в нагромождении выбеленных скал. Грудь ущелья подставляет изломанные ребра лучам перезревшего солнца. В отдалении слышен клокот переката. Я знаю, что дальше трасса начнет петлять, цепляясь за насыпь прижима: там, где едва-едва могут разойтись два лошади, а любой четырехколесный транспорт вынужден уступать полосу, сдавая задним ходом, машину ловить бесполезно. Куда разумней остаться на прямяке. Здесь я хотя бы смогу вовремя подать сигнал, чтобы водитель сумел разглядеть мою сиротливую фигуру в подползающих сумерках.
Приваливаю рюкзак к покосившемуся, расщепленному у вершины столбу. С поперечины свисают обрывки проводов, похожие на переваренные макаронины. Нижняя часть столба обклеена портретами улыбающегося сытого господина с пышными, тронутыми благородной сединой, усами. Изображение дешево отретушировано, из-за чего кожа лица выглядит неестественно гладко, как у младенца. Улыбка под усами — мудрая, отеческая; глаза смотрят прямо, без определенного выражения. Господин облачен в нечто среднее между деловым костюмом и военным кителем, на груди — ярмарка орденов, а сбоку, под сердцем — аляповатый бант в национальных цветах. Вылитый Брежнев эпохи застоя. Но не будем ерничать, ведь передо мной — президент Таджикистана, герой гражданской войны, Пешвои миллат Эмомали Рахмон. Дяденька бдит на каждом столбе и заборе. Я еще не встречал кишлака, где бы портрет президента не являлся главным украшением местного нихера. Мусор, сараи без крыш, бедняцкие хибары и неизменная харя Рахмона.
Пасмурно усмехаюсь. После развала Союза Таджикистан не превратился в страну третьего мира — сказать так, значило бы сильно приукрасить действительность. Нет, здесь чисто Африка, только со среднеазиатским колоритом. Страшная нищета и убогость сочетаются с нелепым культом личности, тем более постыдным, ведь поклонение здешнему Лидеру нации происходит в условиях распада государства. У последнего нет ресурсов даже на содержание вменяемой репрессивной машины. Говорят, в Туркмении люди запросто исчезают на улицах. Рассказывают, что от соседнего Узбекистана веет подвальным застенком и потными лапами полицейского режима. Здесь все иначе — карикатурная диктатура банановой республики, правда, без бананов. Тьфу ты, гос-с-поди, скорей бы в Калаи-Хумб!
Ну вот и все, солнце село. Над афганской стороной пылает огненная корона, однако небо быстро остывает, а по низине уже стелется мутная пелена. Зажигаются звезды — сперва тусклые, почти незаметные, они с каждой минутой разгораются ярче, предваряя наступление долгой ночи. Становится зябко, неуютно. Приветствуя трассу в первом свете зари, я меньше всего рассчитывал застать ночь, практически не сдвинувшись с места, — на глухом перегоне, где русскую речь слышат примерно с той же регулярностью, что и стрекот Калашникова из талибанских селений на дальнем берегу. Попадалово, ребята, как есть попадалово. У Одиссея были верные спутники, закаленные в боях товарищи; что до Александра Супербродяги — он, конечно, парень не робкого десятка, только вот его авантюры пришлись на патриархальную амерскую глубинку. Морозить очко в освещаемом только звездами ущелье на границе Афгана — приключение из несколько иного адреналинового ряда. Это дает повод для гордости, но, к сожалению, никак не улучшает мою ситуацию. Шансы поймать попутку в сей темной и небезопасной мировой жопе стремятся к нулю. Даже так — после захода солнца шансы тупо помножили на ноль. Простая арифметика.
Холодно. Изо рта вырываются клубы пара. Приехали, блин. Такими темпами к утру я превращусь в кусок нетранспортабельного биоматериала. Свежемороженый таджикский полуфабрикат. И чего прикажете с ним делать? Известно чего: разогреть в духовке, соль по вкусу.
— Ма-арк!
Знакомый голос. Вижу пляшущий огонек фонарика на полотне трассы. Ба, да это Авлод! Приближается со стороны кишлака. Шагает быстро, торопится. Выследил? Или опять набрел случайно?
— Привет, Авлод, — говорю я, — давно не виделись.
— Ты зачэм здэсь?
Подходит. Вижу его глаза — в контрастном свете фонаря они смахивают на два лунных блюда.
— Машину жду.
— Машин нэ будэт сэгодня, Ма-арк, — качает головой Авлод. — Мы, таджик, здэсь ночь нэ эздить.
— Почему?
— А-афганский сторона стрэлять, контраба-анда. Наши пограничник стрэлять, па-атруль.
— Так может меня военные подкинут?
— Ма-арк, — Авлод косит глазом с видимой тревогой, — эсли воэнный увидэть, плохо будэт.
— Стреляют? — уточняю я.
— Можэт, стрэляют, можэт, нэт, — Авлод переминается с ноги на ногу, — зачэм провэрять, а? Идэм в дом.
— Я твоей семье точно не помешаю?
— Вай! Зачэм так говоришь, Ма-арк? Ты мой гость. Кушать будэм, чай пить будэм, хорошо.
— Ладно, друг.
Встаю. Тут и думать нечего — выход, предложенный таджиком, для меня оптимален. Уже очевидно, что на этом перегоне я если чего и выхвачу, то исключительно проблем на загривок. А компаньона мне сегодня так и так не догнать... Да и черт с ним, утро вечера мудренее.
Авлод, поминутно озираясь, семенит к обочине и соскакивает на тропу, уводящую прочь от основной дороги. Мы проходим те же пятьсот-семьсот шагов, но в обратном направлении, и не по трассе, а вдоль нее, сливаясь с кустарниками. Тропа втягивается в рощу, запримеченную еще днем. Вижу дом в глубине темного сада. Из освещения — едва тлеющая светляк над крыльцом.
В иных кишлаках, разбросанных по высотным притокам Пянджа, нет даже электричества. Горцы отапливают утлые хижины козьими кизяками. Однако здесь, вдоль Памирского тракта, селения имеют более пристойный вид: берег истыкан опорами ЛЭП, в крупных деревнях есть даже Интернет. Мелкие кишлаки довольствуются кустарными отводами от магистрали — дикость, но только если знать, что где-то живут иначе.
Вхожу в дом вслед за Авлодом. Просторная комната без окон, стены выкрашены в белый цвет, под потолком лампочка на длинном проводе. Мебели никакой, за исключением продолговатого стола на горбатых ножках. Вдоль стен устроены помосты, укрытые вытертыми коврами. Снимаешь обувь, взбираешься, складываешь ноги под себя. За такими столами удобно трапезничать в расслабленной позе, полулежа. В богатых домах их украшают узорами и резьбой (мужчины курят кальяны и пьют чай из маленьких фарфоровых чашек); в доме Авлода стол грубый, сбитый из подручных материалов. Обстановка бедная, но и здесь по-своему славно, а главное — тепло.
Помещение наполняется людьми. Первым входит старик: лысый и сморщенный, он передвигается удивительно быстро, проворно перебирая короткими ногами и поминутно стуча об пол тупым наконечником костяной палки. Порсо, как его представляет Авлод, окидывает меня цепким взглядом, трясет за руку и выговаривает на чистейшем русском: «Добро пожаловать, дорогой. Мы тебе рады».
Затем появляется невысокая женщина; в овальных руках большой казан с чем-то дымящимся, пахучим. Она ставит угощение на стол, выходит из комнаты, возвращается — на этот раз с подносом, заваленным черствыми лепешками. Женщина смотрит в пол, однако в текучих движениях ее тела я различаю грациозность, даже царственность. Ее зовут Зулмат.
Последними в залу врываются трое смуглых черноволосых ребят. Они громко выкрикивают что-то на таджикском, машут руками, не обращая на меня внимания, но стоит Зулмат сделать едва заметный повелительный жест, мгновенно стихают и рассаживаются вдоль стола. Замечают меня: глядят с интересом, без испуга, не забывая набивать рот едой. Настоящие персы-бесенята. Я тоже принимаюсь за ужин. Кушанье очень скромное: кроме овощного рагу и лепешек на столе шаром покати, но мне как-то не до разносолов. Благодарно уплетаю за обе щеки и, кажется, по скорости уничтожения съестного мало чем уступаю сорванцам-подросткам.
Утолив первый приступ жора, наклоняюсь к плечу Авлода и тихо спрашиваю:
— Это чьи дети?
— Зулмат, — он улыбается, — хороший рэбят, да?
— Замечательные, а отец их где?
— Отэц, — Авлод понижает голос, — нэ здэсь. Отэц — Сорбон, муж Зулмат, мой брат, ста-арший.
— Он придет на ужин?
— Нэт. — Авлод отводит взгляд. — Он уходить, да-авно.
Видимо, бросил семью, понимаю я и прекращаю расспросы. Матери-одиночки в старозаветном исламском мире — не та тема, которую стоит поднимать за ужином.
Казан пустеет. Зулмат уносит посуду, на столе появляется заварник с высоким изогнутым горлышком. Чай белый, почти прозрачный. Напиток обжигает, от него веет тонким цветочным ароматом. По телу разливается приятная сытая лень.
Завязывается негромкий разговор. Говорим, правда, в основном мы с Порсо. У старика отличный русский, почти без акцента, что выдает в нем бывшего гражданина Союза. Он засыпает меня вопросами — кажется, больше интересуясь не содержанием беседы, но самой возможностью поговорить на языке молодости.
— Тебе сколько лет, Марк? — спрашивает Порсо, хитро щуря подслеповатый глаз.
— Двадцать пять.
— Семья, дети есть?
— Пока не довелось.
— Эх, — разочарованно вздыхает старик, — а я в твоем возрасте уже с армии вернулся и четырех юных мужчин в доме поселил. Это, — Порсо тычет пальцем в грудь Авлода, — мой пятый внук, а это, — он поводит рукой над головами мальчишек, — правнуки, какие по счету и не скажу. Да и вообще, — смеется, — память уже не та.
— А сыновья, они с вами сейчас?
— Куда там, — Порсо отмахивается, — первый еще до независимости умер, второй в Душанбе, третий в Казахстане, четвертый в России. Вестей от них почти не получаю. Утешаюсь правнуками.
— Слышал, в Казахстане много ваших на заработках.
— Много, — кивает Порсо, — но в Москве больше. Эх, Марк, что за город — Москва! Я когда там учился, это был город белого камня. Я решил, что обязательно буду в нем жить. Не вышло... И доучиться не получилось. Вернулся назад, устроился шофером — так баранку и крутил до самой войны. А потом уже не до Москвы стало да и вообще ни до чего.
— Ты в Ма-асква бывать, да? — встревает Авлод; название русской столицы действует на него магнетически.
— Родился в Сибири, живу в Москве, — зачем-то вру я.
Во всех поездках я стараюсь объезжать хищный город стороной, но сознаваться в этом не хочется. Если скажу правду, последуют расспросы, а за ними — неизбежное разочарование. Горные таджики — добрые, честные люди, в чем-то похожие на детей. Они меня приютили, и было бы невежливо отнимать у них мечту о лучшем мире, даже если мир этот находится где угодно, но точно не в Москве.
— Ма-асква большой, богатый, — говорит Авлод со значением. — Хороший город, да?
— Кому как.
Собеседник понимает ответ на свой лад:
— Я слэдуший вэсна в Ма-асква эхать работать. Тожэ буду жить в Ма-асква. Как ты, Ма-арк.
— Желаю удачи. — Ободряюще улыбаюсь и кладу руку на плечо молодого таджика. — В Москве места всем хватит.
— Ма-арк, — Авлод с жаром обхватывает мою ладонь. — Ты та-ам быть, да? Тэлэфон свой дать, да? Я когда приэхать — звонить, ты помочь, да?
— Обещать не могу, но телефон дам.
Если уж начал врать, придется идти до конца.
— Отстань ты от гостя, Авло! — стучит тростью Порсо. — Он нам ничего не должен.
— Нет, нет, — я пресекаю благородную попытку облегчить мою участь. — Никаких проблем.
— Спасибо, Ма-арк! — Авлод сияет. — Большой спасибо.
— Да не за что.
Чувствую, как щеки заливает румянец, хоть прикуривай. Неловкий момент. Думаю о причудах горского мира: кажется, у этих людей нет ничего и они нуждаются во всем. Примитивная, едва ли не первобытная жизнь, а у молодых еще и полное отсутствие адекватных представлений об окружающей действительности, прогрессе, развитии технологий. Предел мечтаний — китайский грузовичок, китайские шмотки, китайский смартфон и работа на дальних выселках беспощадного российского человейника, где с тобой будут обращаться как с рабом, если не хуже. Все, что у них осталось, — руины большевистских строек, тени колониального прошлого. Их настоящее поглощает новая империя, тоже коммунистическая. Подозреваю, иго китайского желтого человека мало отличается от ига человека белого, советского. Из одного завоевания в другое. Не удивлюсь, если через пятнадцать лет таджики будут ездить на заработки не в Москву, а в Пекин.
Конечно, этих людей нужно учить, просвещать, вытаскивать из невежества. Но мне ли это делать? Я сижу за нищенским столом, в свете блеклой лампочки — выходец из метрополии, зараженный всеми ее талантами и пороками. Я не чувствую под собой опоры, позволяющей смотреть на этих людей свысока, и дело не только в том, что моя империя ослабла — хотя это так. Причина глубже. Мы, люди эпохи распада, утратили веру в свою непогрешимость, в превосходство нашего цивилизационного проекта. А без этой веры — крепкого морального императива — дух колониализма выхолащивается, сходит на нет. Мы больше не верим в себя, а они — в нас. Проект свернут, лавочка закрыта. Я понимаю это, а еще — что горцы во многом лучше людей, которых я привык видеть дома. Возможно, это мне нужно учиться у них. Бегство в архаику. Добровольное затворничество. Поиск твердой почвы там, где она еще осталась. Среди чистых, незапятнанных прогрессом людей. Среди чистых людей. Среди людей...
— Марк, тебе домой не пора? — В мутном зрачке Порсо появляется странный блеск. — Уже осень, скоро здесь холодно станет, не для путешествий.
— Когда-нибудь, — отвечаю я. — Но сперва — в Калаи-Хумб. До него, насколько я знаю, уже недалеко.
— Ка-ла-и-Хум-бэ... — медленно выговаривает старик. — Я почти семьдесят лет прожил в Бадахшоне, но там бывал лишь однажды. И не жалею.
— Вроде бы красивый город, мне так в Хороге сказали.
— Ну раз в Хороге, — Порсо смеется одним ртом, — может, и хорошо, что меня туда не тянет. В Хороге хорошего не посоветуют. Вор на воре и вором погоняет. Не нужно тебе в Калаи-Хумб, Марк, — старик вновь серьезен, — нечего там делать.
— Почему? — я удивленно поднимаю бровь.
— Калаи-Хумб — крепость. Старая крепость, охраняющая вход в наш Бадахшон.
— То есть меня туда не пустят?
— Пустят. — Порсо отворачивается. — Но это не твой дом.
— Я... это знаю.
— Плохо знаешь, раз едешь.
Зулмат убирает со стола, а меня провожают во вторую комнату, еще больше первой: углы теряются в полутьме, стены сливаются с потолком. Из обеденной залы проникает свет — вытянутый желтый треугольник облизывает устланный коврами земляной пол. Поперек, во всю ширь, раскинут огромный лежак. Дерево прикрыто ватными матрасами, поверх разбросаны оделяла разной формы и толщины.
В комнату вбегают дети, их босые пятки несколько раз пересекают световой треугольник, раздаются приглушенные голоса, смех. «Эй-ма, тихо там, девхо!» — это старик Порсо с протяжным вздохом опускается на ложе в центре, где потеплее. Детский говор сменяет равномерное посапывание. Вдох-выдох-вдох. Уснули. Мерцающий проем заслоняет тень. Авлод с минуту стоит неподвижно, будто прислушиваясь. Скрипят половицы, шуршит одежда. Лег. И снова тихо.
Через какое-то время свет гаснет, в спальню входит Зулмат. Женщина движется бесшумно, рассекая пласты слежавшегося воздуха. Я улавливаю движение ноздрями, ресницами. Натягиваю тяжелое покрывало до самого подбородка. Здесь нет мужской и женской половины, все спят вместе. Непривычно лежать вот так, среди незнакомых людей, которых увидел впервые и, вероятно, не увидишь никогда после. Закрываю глаза. Сон накатывает волнами, как прибой. Слышу собственное дыхание, оно ровное и тягучее, я ощущаю его как бы извне. Сознание готово покинуть тело, еще минута — и я смогу увидеть себя со стороны. Но минута проходит, а вокруг только чернота и покой. Покой и чернота.
- 4 -
Открываю глаза за пологом ночи. Сон больше не идет. Выбираюсь из-под покрывала, нащупываю ковер, крадусь к двери, стараясь не шуметь. В доме тихо, воздух колеблется от дыхания погруженных в небытие людей. Различаю холм из живых разноцветных пятен, это Зулмат стережет сыновей: младшие жмутся к материнской груди, а старший — подросток с точеным носом, так похожий на старика Порсо, — во сне разбросал белье и теперь лежит сверху, подставляя нагую грудь лунному свету, сочащемуся из небольшого ромбовидного окна под потолком. В позе мальчика есть что-то мучительное, он будто пытается избавиться от опеки, рвется на простор большого пустого ложа, но мать не пускает, ее широкая белая ладонь лежит на его запястье. Кажется, это только легкое касание, но я чувствую — стоит руке сдвинуться хоть на дюйм, женщина запустит пальцы в родную плоть, и тогда боль напомнит сыну об узах, что много крепче подростковой воли (инстинктивно жаждущей побега, неизбежно покоряющейся зову долга).
От крыльца иду к реке, спускаюсь по каменным ступеням, отстраненно подмечаю дрожь в коленях. Думаю о спящем мальчике, его дяде Авлоде, старом Порсо и сотнях, тысячах мертвых, блуждавших по этой скудной земле до них. Лестница ведет к бормотанию вод, поляне меж склонивших голову плакучих деревьев, — ждет ли меня лодка с одиноким гребцом на носу? готов ли я отдаться в руки Паромщика? и разве у меня есть выбор? Но поляна пуста, я один у реки. Пальцы касаются водного марева, я не чувствую холода, только сквозняк под ладонью. Вдруг понимаю — у реки нет дна. Она по-прежнему неистово бурлит и пенится, но в свете луны ее бег замедляется, становится плавным, тягучим. Я перебираю слова: днем река была «яростной», теперь она... «потусторонняя».
Святящиеся точки возникают над кромкой ущелья — там безразмерное плоскогорье уходит вглубь Афганистана. Погруженная в ночь, как в изначальное зло, чужая страна испещрена червоточинами. Одни из них, желтые и мерцающие, похожи на отраженный свет факелов, другие — зеленоватые и недвижные — напоминают чад болотных свечей. Огней все больше, вскоре они захватывают весь афганский берег. Теперь я вижу невольничью армию воочию. Ратники бредут по хладной земле, ища успокоения, но находят лишь себе подобных и начинают молчаливый бой мертвых с мертвыми. Бой, где не бывает победителей, только побежденные. Если приглядеться, можно увидеть македонские фаланги, британские штыки, жерла советских танков, пыльные шлемы летчиков из-за океана. Все они приходили сюда горячими, отдавали жизни за то, чего больше нет, и уходили туда, где не принимают воздаяний. В последнем пристанище под звездным сводом они оправляют мундиры и маршируют по зову остывшей, но не утратившей силу крови, а затем растворяются в сырой теснине, куда не проникает свет зари, и возвращаются каждой следующей ночью, влекомые гонгом неутолимого голода.
Онемев от сосущего предчувствия, я смотрю на огни Талибана и понимаю — мертвые узнали меня. Они стоят на дальнем берегу Пянджа, их голубые губы плотно сжаты, но я слышу без слов. Мертвые говорят: «Мы ждем тебя, брат».
Утром я просыпаюсь в омерзительной луже, матрас подо мной вымок от пота. В комнате никого. Кричит петух, пахнет близким дыханием реки, трутся о вырез окна ветки груши, согбенные изобилием осенних плодов. В комнату входит Зулмат. Я неловко привстаю с лежанки; женщина хватает белье, комкает, швыряет в плетеную корзину. Чудится, сейчас она спросит, здоров ли я, — отяжелевшая ткань в ее руках хранит память о ночном кошмаре. Вместо этого Зулмат прижимает корзину к бедру и молча выходит в сад. Я следую за ней, повинуюсь невысказанному желанию. Крыльцо рядом, а женщина — уже не. Силюсь понять, куда она могла пойти. Взгляд упирается в раскидистое дерево посреди сада. Дерево отбрасывает кучерявую тень и сильно разнится с тем, что я привык видеть в Сибири. Вместо прямых линий и ясных очертаний — переплетения мелких веток, играющих в салки с утренним светом. Не крона, а настоящий дворец падишаха. Изнутри доносится тонкий пересвист. Я сажусь на скамью, прислоняюсь к прохладе ствола. Мои одолеваемые дремой веки готовы сомкнуться. Хочется уснуть среди щебета птиц и шепота трав...
Трясу головой, отдаю себе привычные короткие команды. Возвращаюсь к мыслям о трассе. Мне надо туда, и чем скорей, тем лучше. Пытаюсь вспомнить, где мой мобильник. Наверное, за ночь трубка полностью села. Ну ничего, связи здесь все равно нет, а в Калаи-Хумбе меня встретит компаньон. Он дождется, он не бросит товарища на перегоне. Собираюсь встать, но в этот момент появляется Зулмат. В ее руках медный поднос; узор на кайме сочится украденным теплом летнего дня. Женщина опускает ношу и уходит внутрь дома. Какое-то время я тупо пялюсь в черноту проема, мысли блуждают. Вновь трясу головой: на подносе две чашки и заварник с по-лебединому выгнутым горлышком. Чай жидкий, слабый и одновременно — горячий, свежий. Нутро сводит, но сразу же отпускает.
— Ма-арк. — На скамью опускается Авлод, одетый в просторную рубаху из грубой хлопковой ткани. — Сад хороший, да?
— У вас очень спокойно, — честно отвечаю я, — только ночи холодные.
— Ночь мы рядом спать. Вмэстэ тэ-эпло.
— Это верно. — Улыбаюсь манере горцев доносить самую суть. — На трассе я бы дуба дал.
— Зачэм дуба? Зачэм трас? — Авлод заглядывает мне в глаза. — Ты пэй. Потом мы про Ма-асква говорить.
Похоже, вчерашнюю случайную ложь уже ничем не перебьешь. Теперь в представлении Авлода я чуть ли не столичный эмиссар, проводник в мир русского богатства. Дружба с таким человеком может обеспечить процветание его семье. Для него «Ма-асква» — суть заклинание, сладкое, как пахлава.
— Сколько лет Порсо? — невпопад спрашиваю я.
— Много. Отэц моэго отца.
— А твой отец где?
— Мой отэц умирать, давно. Порсо старый чэловэк, уважа-аэмый чэловэк. Всэ знать от Рувшон до Хорог.
— Он в армии служил?
— Так, — Авлод кивает. — Сначала афганский война, потом наш, таджикский война.
— Он хромой. Ранен что ли?
— Авария попадать. — Авлод опускает голову; похоже, разговор перестал ему нравиться. — Я война нэ видэть, нэ знать. Здэсь война нэт.
— Если бы так... — шепчу я.
Спину лобзает змея ночных видений. Мертвые не умирают, не умирают, не умира-а-ю-ют...
— Ма-а-а-арк. — Авлод поднимается; он смотрит сверху вниз; над его головой разворачивается гомонящая древесная крона. — Пэй чай, Ма-арк. Зулмат скоро обэд приносить. Кушать будэм.
— Хорошо-о, — тяну я, невольно подражая собеседнику. — Только мне на трассу надо.
— Зачэм трас? Потом трас. Дом, вмэстэ будэм. Нэ ходи, а?
— Не пойду, — вдруг обещаю я.
Куда и зачем, в самом-то деле? У дороги нет конца, как нет золотых гор для мигрантов в кремлях Москвы. Там нет вообще ничего — Авлод этого еще не знает, но я-то, я-то уже все видел! Простой выбор: оазис в тихой заводи или дальний берег Пянджа, урочища и пещеры, из которых после заката выходит армия мертвецов. Трасса всего в нескольких волевых прыжках, сразу за оградой, и там же меня караулит страх. Скажу честно, я боюсь до усрачки. Я не готов вложить увесистую монету в ладонь Паромщика. Я не я! И пусть Калаи-Хумб подождет, пускай этот восточный Китеж-град вытеснит из моих снов холодящий перезвон македонских кольчуг. Я буду думать о нем и засыпать с блаженством на устах. Теперь я понимаю, почему в изложении Тарковского Крис Кельвин остался на острове посреди океана Соляриса, океана снов. Он, как и я, не был готов, он боялся. Страх заставляет человека цепляться за твердое, осязаемое, даже если это мираж, даруемый мирозданием. Теперь я вижу — мироздание милосердно, и в том мое утешение…
Несколько раз отрывисто моргаю. Ладонь сжата в кулак, костяшки посинели, фаланги измазаны чем-то ярким, теплым. Медленно разжимаю задеревеневшие пальцы. Внутри каша из осколков чашки. Зазубренный край глубоко впился в лакуну между линиями жизни и судьбы. Пытаюсь распрямить ладонь. Осколок вываливается из раны, оставляя бурый след. Кровь смешивается с остатками чая; у основания запястья образуется ручей — по нему плывут мелкие листья заварки.
Вздох платья на травяном ковре. Я с трудом отрываю взгляд от побагровевшей руки. Зулмат стоит неподвижно, ветер с реки не может сдвинуть подол ее тяжелого платья, стелющегося по опавшим листьям, словно царская мантия. Я подаюсь вперед, мое желание обретает силу, становится зримым. Эта женщина красива и статна, она знает, что получила власть надо мною. Ее глаза встречаются с моими. Под пышными и крутыми, как ущелье Пянджа, бровями плещется темный океан без зрачков — убежище от ужаса, поджидающего на том берегу.
Дальнейшее трудно описать словами. Неторопливые дни под сенью крон в саду Зулмат — это ее сад и ее дом. Мягкий свет течет сквозь ветки, тени мечутся по траве, человеческим лицам, водным зеркалам. Вечерами я сажусь у берега и наблюдаю, как рыбы выпрыгивают на камни в снопе закатных брызг, походящих то ли на ртуть, то ли на сладкое вино. Упоение шелком звездной ночи — теплой поначалу, а к утру становящейся молодящей и свежей. Купание в небесных акварелях, заливающих комнату через вырез окна. Прогулки среди ив, ласкающих перси запруды: если смотреть сбоку — видны отсверки далеких планет, если же взглянуть прямо, через застывшую латунь проступает россыпь камешков дымчатого отлива.
Я приношу хозяйке эти лунные самоцветы, она берет их с невысказанной благодарностью и странным, ни на что не похожим выражением, таящимся не на губах, но в бездонных малахитовых ее глазах. Я пью чай, вытягиваюсь под деревом, любуюсь чародейством листвы, погружаюсь в дрему, забытье. Иногда меня посещают тревожные, смутные образы. Мне вдруг хочется вскочить и куда-то бежать. Так бывает в редкие моменты, когда рядом нет Зулмат. Все остальное время я подле нее, и мне кажется, что так было всегда. Ее дети стали моими детьми. Авлод мне теперь как брат, мы ходим удить рыбу и собирать плоды в роще у ограды. За ужином я слушаю смешные и грустные истории Порсо-отца — он говорит медленно, делает театральные паузы, играет голосом, изображая то женщину, то мальчишку, то заморского владыку. Дети смотрят на него, разинув рты, не отрываясь. Я же смотрю только на Зулмат. Она сидит против меня, у входа в спальную залу: руки на коленях, одна поверх другой. Все в ее позе свидетельствует о полноте власти над этим местом. Как пленительна власть. Как я хочу отдаться ей целиком.
Дни, недели, месяцы — сколько я здесь? Не все ли равно, ведь пока Зулмат рядом, мне ничего не грозит. Я ложусь на общую постель, радуясь, что мы спим вместе. Большая семья, которая ночью еще более цельна, чем днем. Закрываю глаза и чувствую, как мое тело сливается с телами находящихся рядом. Мы пахнем землей, хлебом, прелой листвой. Мы дышим вместе, чувствуем вместе, думаем вместе. Нет, уже не думаем. Плывем по океану ночи в каноэ с высокими бортами. Океан о чем-то поет, но я не разбираю мелодии. Я больше не я. Теряю форму, содержание, суть. Какое же это счастье — быть никем. Быть всем.
- 5 -
— Пора.
Два горящих дупла на ребристом древесном стволе. Глядят равнодушно, без удивления.
— Ты должен уйти, — говорят они.
Приподнимаюсь на локтях. Рядом посапывают дети, их вдохи и выдохи повторяют более глубокое дыхание Зулмат. Мне хочется рухнуть обратно, раствориться в звуках, втянуть ноздрями знакомый запах. Но что-то меня удерживает. Взгляд. Он отрезвляет, приводит в трепет.
— Ты кто?
— Сорбон.
Старший брат Авлода и... муж Зулмат! Он все-таки вернулся.
— Я пришел. Ты уходишь.
Дупла приближаются; кажется, что кожу вот-вот опалит сухим жаром, однако вместо этого я чувствую лишь студеную изморось на лице.
— Утром...
— Сейчас. Идем.
Я бреду к выходу, не смея хоть на шаг отстать от спины вернувшегося. Сознание начинает разгоняться, перебирая разные сценарии, один бредовей другого. Побьет или сразу зарежет? Продаст в рабство талибам? Кастрирует?..
— Послушай, друг, куда мы идем?
— К порогу.
Сорбон быстро, но без видимой спешки удаляется в сторону увитой плющом ограды, где скрывается тропа, ведущая к Памирскому тракту. Он не приказывает и не угрожает, но я все равно следую за ним, как привязанный. Светает, небо над восточным обрезом ущелья наливается ванилью. Тишина абсолютная, из звуков — хруст камешков под кожаными сандалиями вернувшегося. Они необычного фасона, эти сандалии: старинное плетение, опутывающее пальцы сетью пушистых веревок — некоторые перетерлись, обрывки влачатся по бокам, образуя некое подобие сложенных крыльев.
К ограде прислонен посох с накинутой на него широкополой шляпой, а рядом пасется ягненок, щиплющий свежую, только что взошедшую траву, — раньше я его в кишлаке не замечал.
— Друг, давай поговорим, а? — осторожно предлагаю я. — Мы с тобой не враги, честно.
— Мы — никто. — Вернувшийся говорит громко, в полный голос. — Ты здесь не нужен.
— Я здесь живу!
Меня охватывает внезапная ярость. Да кто он такой?! Меня пригласил в дом Авлод, а Порсо, Зулмат и дети приняли как родного. Они не хотят, чтобы я уходил. Я и сам не хочу. Мне нужно назад, под полог, где меня ждут и… любят.
— Зачем гонишь?! — ору я, чувствуя, как ладонь превращается в кулак.
Сорбон наклоняет голову; тень залегает под его совершенно нехарактерными для таджика белесыми бровями.
— Пора.
— Но почему?!
Делаю шаг вперед, но не нахожу в себе сил для борьбы. К глазам подступают детские, обидные слезы. Нет, вернувшегося нельзя ударить, а вот просить — да. Он поймет, как понял бы отец.
— Позволь мне остаться хоть на один день, — молю я. — Мне нужно попрощаться.
— Нет. — В этом слове мой приговор. — Когда взойдет солнце, женщина откроет глаза. Она принесет чай, ты выпьешь и заснешь долгим сном. Сон сладок, но то сон, а не явь.
— А сейчас?! — восклицаю я. — Разве я сплю?!
— Спишь.
Сорбон протягивает мне корзину с крупными зелеными грушами.
— Ступай. — Дверца калитки уходит в сторону, открывая узкую извилистую тропу. — И запомни: смотри назад, но никогда не возвращайся.
Ноги сами несут меня прочь. Вернувшийся глядит вослед. Под глазами-дуплами — там, где должен быть рот, — ни улыбки, ни гримасы, ни иного выражения. Возможно, там нет даже рта.
— Почему мне нельзя остаться?! — кричу я, задыхаясь. — Почему?!
— Остаться значит снова уснуть.
Сорбон надевает шляпу, закидывает ягненка на плечи, затворяет калитку, берет посох и направляется к дремлющему дому. Последнее видение: роса, омывающая не знающие устали сандалии вернувшегося…
И вот он я, ребята. Сижу на пыльной обочине под утренним солнцепеком. На ногах любимые ботинки, между коленей зажат потертый рюкзак. Что это было, спросите вы? Да хрен его разберет. Когда я открыл глаза, было жарко, а во рту пересохло так, как не случалось в дни самых буйных студенческих попоек. Я долго пил воду из реки, потом долго ругался матом (мама, прости) и, наконец, вернулся на трассу — здесь она, целехонькая, никуда не делась.
Мыслей в голове немного, а те, что есть, предельно просты. У меня нет желания ворошить прошлое. Впереди юркий октябрьский день, который нужно прожить так, чтобы в его конце оказалось больше пройденных километров, чем в его начале. Вот и все.
Слышите?! Нет, вы это слышите?! Машина! Или показалось?.. Нет, это не шум переката, это, блин, рев перегретого дизельного движка. Ха-ха-ха! А вы не верили! Вот она, удача автостопщика — главное, не терять веры. Поднимаю руку, и что же — останавливается, мотор не глушит, но, блин, останавливается!
Все знакомые приметы: песочный, в цвет пейзажа, самосвал марки FAW (китайский аналог КАМАЗа, популярный в здешних широтах). Дверь кабины летит навстречу. Задираю голову. На водительском кресле потный азиат в тельняшке. То ли китаец, то ли киргиз, против света не разобрать. Закидываю рюкзак в кабину и одним заученным движением вбрасываю тело туда же.
— Нихао, — говорю, — будем знакомы!
— Денг уйхиа, — отвечает, — хей йяо!
— Так и я о том же!
Самосвал рвет Памирский тракт на отдельные кадры, яркие картинки, въедающиеся в покрасневшие от недосыпа и пыли глазные яблоки. В руке не яблоко, но груша — прощальный подарок крылатого незнакомца. Где-то впереди поджидает терпеливый компаньон — он щурится на встающее из-за гор солнце, и в уголках его губ прячется улыбка.
— Йоугу де еуй! — скалится китаец, налегая на рычаг КПП.
Дорога, рывками, сползает под брюхо большегруза.
— Гони! — кричу я. — Валим отседова!
Такие дела: побег из империи страха начинается в миг, когда ты отказываешься бояться. Это неторный путь, но его необходимо пройти, чтобы увидеть Калаи-Хумб, город, стоящий у границ проклятого царства. Все, что тебе нужно, — доехать, дойти, доползти до Калаи-Хумба. И я скажу, что будет дальше, ребята. Я встречу новый день с открытой душой. Я перемелю империю страха или она перемелет меня. Я знаю — после меня ничто не будет прежним. Потому что я — иной, рожденный для мира, приходящего на смену войне. Потому что конец света уже наступил. Потому что я здесь и я есть. Потому что есть Бог, добро отличается от зла, а жизнь лишена смысла ровно до того момента, пока ты сам не решишь, каков он, этот смысл. И клянусь вам, ребята, — сегодня я вышел на трассу, чтобы наконец узнать, где ее конец.
Я обещал маме, но как же, мать ее, хочется материться от злого и радостного предвкушения. Вот новый поворот, и мотор ревет! Что он нам несет: пропасть или взлет?! Омут или брод?! Брод или омут... Омут... мут.. ут... у-уу... Но где же волшебный град? Почему из-за поворота показываются не окрашенные зарей розоватые шпили минаретов, а покачивающиеся на выморочном ноябрьском ветру фонарные столбы с предательски желтыми провалами газовых светильников? И откуда этот выворачивающий, обжигающий снег с дождем, чьи стальные струны натягиваются под углом к параллельной, горизонтальной, геометрически выверенной ухмылке пустого асфальтового проспекта? Откуда эта больная, мышастая, пахнущая гнилой листвой и помешательством предзимняя ночь?
Где же я, мама? Куда я попал? Молчание. Нет! Слышу, слышу, как ветер роняет рыхлые слова на мою съежившуюся душу: «Не я, и не он, и не ты... Но слиты незримой четою... Лишь полога ночи немой... Не я, и не он, и не ты... И в мутном круженьи годин... Каким же я буду один?»
Картина вторая
«Полифем»
«Можно считать слова словами, если они в голове?»
Дэвид Фостер Уоллес, «Бесконечная шутка»
- 1 -
«Ты», «ты», «ты»... — доносится отовсюду и ниоткуда. Ты, говорят желтые фонари у ограды психбольницы. Ты, шамкает беззубым ртом разбитое окно брошенных на обочине «Жигулей». Ты, глумится ноябрьский ветер. Не я, не он, — ты. Только ты.
Ты идешь по ночному городу: вразвалку, устраивая раздрай кучам подмороженных листьев, попинывая пустую тару из-под пива. Алюминиевые банки разлетаются с полым звуком, будто на безлюдной улице кто-то хлопает в ладоши. Бутылки пинать куда веселее — под увесистыми носками говнодавов стекло обращается в фонтаны ярких брызг, взмывающих выше первых этажей местных развалюх. Брызги ловят отсветы фонарей, — словно метеоры на вымершем небе, — и уносят за горизонт прах своих сгоревших душ. Красиво, блин.
Но тебе не до смеха. В горле слизкий ком. Ты харкаешь на асфальт; рядом с подошвами говнодавов появляется клякса — глядя на нее, стошнит и здорового. Ты пил три дня. Или четыре? Пусть будет четыре, тогда сегодняшняя ночь — пятая. Юбилейная, для ровнехонького счета. Ты любишь круглые цифры даже в состоянии глубокого алкогольного опь-я-не-ни-я. Перешагиваешь через собственный плевок, кривя рот. Вот же отвратная херня, да еще и дурка рядом.
В такие дни как этот... не, в любые дни, во все гребаные дни, один за одним, по порядку, этот город похож на скотобойню, полную умственно отсталых де’тишек. Их держат в доме за перекошенным забором, под желтушными фонарями. Вряд ли им там хорошо спится, этим ‘тишкам. Но они, убогие, видать заслужили. Как и горожане. Эх, запереть бы всех кудахтающих мамочек, их визгливых малолетних байстрюков и жалких стари’кашек в одном глухом подвале, а сверху посадить здоровенного такого амбала. Он будет жрать шаверму, рыгать с оттяжкой и облизывать жирные пальцы. У-то-пле-нный в ненависти и насилии город заслужил своего тюремщика. А ведь неплохо сказано, блин!
Задираешь воротник пальто, шустро двигаешь граблями, в ушах — лучшие хиты группы «Оргазм Нострадамуса». Лешка Угол с нескрываемым вожделением прислоняет чахоточный рот к микрофону и рассказывает очередную че-ло-ве-ко-лю-би-ву-ю историю: «Им было далеко за восемьдесят, но они любили друг друга. И каждую ночь, в своей землянке на окраине городской свалки, они устраивали праздник духа и плоти. В общем, они уже не были людьми. Это были нелюди!» Настоящая поэзия, сибирский аморал-панк, а не какой-нибудь жалкий эстрадный кал. Для ценителей, блин.
Тик-так, шаг-перешаг, говнодавы рубят ледок на лужах. Ага, вот и нужный падик, но внутрь пока не тянет. Есть мысля посидеть на лавочке и чутка посмолить, наслаждаясь воплями электрогитары. Почему бы нет, а?! И кто бы мог тебе запретить? Ты в своем праве, братан, ты, блин, свободный чело’век в свободной стране.
Лешка Угол продолжает завывать:
Кружились в свадебном вальсе
багровый жених и невеста,
их потные лица лоснились,
и в танце смыкались их чресла
Ты думаешь о похмелье. Ты боишься его наступления, и потому пьешь. Честен с собой: похмелье — ужасающая херня, и ты в ней ужаснее всех. Иногда ты смотришь на свой опухший фейс свекольного цвета, чувствуя органы, кости, мышцы. И они — мышцы, кости, органы — ни хрена не у-до-вле-тво-ре-ны твоим поведением. Они разлагаются, говоря: «Ну ты и сволочь, Марк, ну ты и выродок». Тебе погано, но у тебя, как и у любого закоренелого ханыги, визгливое чувство гордости (или чо другое на «гэ») сидит в подкорке, не дает спуску. Ты отвечаешь четко-конкретно: «Пил, пью и еще курить здесь начну!»
Или вот прошмандовки. У тебя аж кишки сводит от ненависти к двум таким. Они живут на твоей площадке, курят всратый «Vog» и тушат сижки в баночку из-под маслин. Разумеется, тупые марамойки часто промахиваются. Каждый раз, когда ты видишь под дверью пепел и бычки — пожеванные, с влажными следами помады бордельного оттенка, — ты, блин, приходишь в реальную ярость. Ты с трудом сдерживаешься, чтобы не расчехлить свой болт и не обоссать конуру, где обитают эти облезлые разукрашенные курицы. На деле ты ровный пацан, не склонный к беспределу, поэтому о-гра-ни-чи-ва-ешь-ся смачным плевком в их фуфелку. Ты харкаешь туда перед выходом на променад, и это, блин, приятное начало трудовых будней.
Правда, ушлепки-водилы за рулем маршруток «Istana» ничем не лучше слабых на передок герл с твоего района. Такое впечатление, что они возят не людей, а мусор. Эти гниды топят через двойную сплошную, а у них там полный салон полудохлых ‘кашек или обгаживающих портки ‘тишек. Эти мудозвоны подрезают каждого встречного, врубая на всю ивановскую галимый чурекский кал, который они почитают за музыку. Да-да, ту самую не-у-до-бо-ва-ри-му-ю попсу из трех строчек под типа восточные напевы — ее слушает каждый уважающий себя гость из всратого Душанбе. Когда «Istana» пролетает на красный или встает посреди дороги, тебе хочется достать ни-ке-ли-ро-ва-нный тройник от любимой курительной трубки, перевести его в позицию «шило» и поглубже загнать в покрышку. Чтоб было слышно, как спускает!
Ваяет Петрарка Лауру —
богиней становится глыба,
у мастера руки дрожат,
и губы кривит его лыба
Тетки, опять же, — жирные старые кошёлки все чем-то банчат в ларьках на каждом гребаном углу. Они называют сижки «Моre» — «морем». Мо-рем, блин! Как же тупо, обосраться можно! И, блин, они ведь хрен чо продадут в кредит, даже завалящую баклажку пивчанского, ботл портвы «Три топора» — и тот зажадят, хотя у тебя всего-то рубля и не хватает. Ты суешь в их за-са-ле-нны-е грабли сто пятьдесят деревянных, а они морщат харю и просят сто пятьдесят один! Их где этому учили, в Гестапо?! Когда они так делают, тебе хочется схватить ближайшую тетку за загривок — самую отвратно-толстую складку на ее бараньей шее — и как следует садануть о витрину, устроить нормальный такой раздрай, чтобы кровь и слезы по всему фейсу. Ты бы взял с полки пачку майонеза «Провансаль» и выдавил на визжащую эту мразоту, повозюкал бы по вонючей жиже дряблыми щеками, поросячьими зенками, ртом — да, поганым ро-бо-вым ее отверстием. Вкусненько, очень вкусно!
Еще прикалывают коровы, которые летом напяливают платья с открытыми плечами, а зимой — лосины в обтяжку. Просто финиш! Посмотри на себя, дура, да у тебя руки свисают, как два копченых окорока в том супермаркете. Прикройся, не пугай народ! Когда нормальный ‘век такое видит, у него аж исподнее прилипает к заднице, он начинает искать урну, чтобы сблевать туда этот гребаный стыд. А тупая герла идет по набережной, прогуливается, понимаешь, вдоль па-ра-пе-та, себя показывает. О чем думает нормальный ‘век? Да у него глаза за-сти-ла-ет от нестерпимого желания подойти, вхерачить с локтя, а потом скинуть бесформенную тушу прямо в Ангару — чтоб всплыло!
Нельзя забыть и про бесячих гомосеков. Да, блин, вот тут не соврать — ты ненавидишь этих всратых жеманных педиков, наряженных в цветастые майки и джинсы с зауженными штанинами. Когда в каком-нибудь кабаке два глиномеса начинают совать друг другу в робовое слюнявые языки, тебе хочется взять бутылку с пивчиком, жахнуть об стойку и порезать эту го-лу-бя-ти-ну «розочкой»!
Подглядывает сынишка,
как матушка моется в ванной,
в мозгу стопорится мыслишка:
«Я очень хочу тебя, мама!»
Политиканы по тому же разряду. Ты презираешь либералов, демократов, прочую го-вор-ли-ву-ю сволоту. Они орут: «Дайте нам свободные выборы, и мы дадим вам свободу!» Да хрен ли вы понимаете в свободе, ушлепки?! Оглянитесь, мудозвоны, вы уже свободны! А на ваших всратых выборах побеждает гитлер, обама или путин. Убийца, болтун или вор. Вы чо конкретно хотите-то, тупорылое ваше племя? Чтобы вам в затылок с маузера стреляли? Или чтобы вокруг вас альфа-самец течкой исходил? Уроды, как есть уроды, блин.
Попы не лучше гомосеков. На-сто-я-тель в женском платье так и скачет на песке. Бородатые чудилы ставят пластиковые гробики для пожертвований в магазах, а рядом барыжат кагором и свечами. Они кидают ‘тишек в проруби и умасливают всяких неграмотных ‘веков байками про ребра, пятки и мошонку пер-во-бы-тно-го еврея, которого римляне по глупости подвесили на кресте. Не, всякая фигня в мире случается, но какой ‘век в здравом уме поверит, что Магдалена была святой ми-ро-но-си-цей, а не обычной потаскухой? Когда жирный, заросший нечистой бородой мудень начинает при ‘тишках и ‘кашках заливать про святую воду, крещение и божий суд, возникает настойчивое желание взять канистру бенза и спалить к херам городскую е-пар-хи-ю. Вот вам настоящее Второе пришествие! Чо, не ждали?!
Кричите: «Подонок, скотина!»
оттяпайте руки по локоть,
эстетствующие павлины,
вся цивилизация — похоть!
Гитарные аккорды ввинчиваются в мозг; ледяная лавка под тобой медленно раскаляется; голова наполняется тяжелым гудением. Это сверло победившего пластмассового мира подбирается к самой сути. Что ж, ровные пацаны идут до конца, поэтому дальше ты предельно о-ткро-ве-нен с собой. Ты ненавидишь жрать. Блин, пережевывать пищу — отврат! Тебя оскорбляет все телесное: жрать, спать, мыться. ‘Веки носятся со своим телом, как с пе-ре-зре-вшей целкой. И обхаживать мерзко, и обижать жалко. Тело хочет бухать, трахать и спать. В перерывах — жрать и срать. Никакого, блин, полета мысли.
И, конечно, ты ненавидишь ублюдского безвольного ханурика — он только и может, что плеваться желчью и заливать в себя галлоны самого дешевого пойла. Ще-ти-ни-стый двадцатилетний гондон, чмо, плевок на протекторе говнодавов. Когда ты видишь этого мудака в зеркале, то едва сдерживаешься, чтобы не схватиться за биту. Тебе хочется зазвездить выродку под колено, чтоб сухожилие отнялось на хер! А потом мочить лежачего, до хруста в костях, до кровяного поноса! Больше, чем кого-либо или что-либо, ты ненавидишь этого хи-тро-де-ла-нно-го ушлепка. Увидите на улице — никаких разговоров, сразу херачьте любыми подручными предметами. Он заслужил.
Любовь умирает первой,
последней умирает надежда!
А похоть не умирает,
не умирает никогда!
Одноглазые фонари рубят пространство на овалы. Ты встаешь с лавки и топаешь в сторону падика. Здесь живет Джонни-бой, и сегодня кости выпали так, что пить и курить ты будешь, полагаясь на его ра-ду-ши-е. У входа какой-то горбатый ‘кашка в грязно-сером за-му-со-ле-нном плаще марки «Совок» — курит, разглядывая линии дождя в перекрестии крыш. Романтик, блин. Грубо оттираешь его локтем и вваливаешься в душный, воняющий застарелой мочой коридор. Лампочки давно пущены в расход; оловянное свечение проникает сквозь рамы — местами прозрачные, но чаще просто забитые разномастной фанерой.
Ветер снаружи крепчает. Фонарная качка на расписанных матом стенах: провалы измордованных окон пе-ре-ме-жа-ю-тся пятнами редких, еще не выбитых стеклин. Шахматный иконостас подрагивает, отвечая судорогам ветра. Ты вспоминаешь, что Лешка Угол недавно издох. Уснул на столе после концерта и захлебнулся блювотой. Кончил, как жил. Отборнейший кал.
- 2 -
Хруст стекла под подошвами говнодавов. Метишь ступени, этаж за этажом. Тебе нужен девятый, а лифт в этой трущобине, понятно, ушел на пенсию еще при коммуняках. Цой говорил, что война — дело молодых. Цой рано умер.
Эх, высоко же забрался Джонни-бой, этот убитый гаш’ишем любитель плохого чтива. Забавный пацан, тебе он нравится. Знакомство с Джонни произошло случайно: однажды собутыльник привел тебя к приятелю-обрыгану, тот, мол, всегда рад гостям. Для обрыгана Джонни оказался слишком прилизанным и толковым, а насчет остального сказать трудно. Можно ли считать го-сте-при-им-ством, когда в приступе белочки тебя пытаются убить столом для покера? Впрочем, ты идешь к Джонни не для созерцания его гладко выбритого хлебальника. На пятый, юбилейный день запоя тебя уже трудно спо-дви-гнуть на искреннее общение с кем-то, окромя бутылки. Тебе нужна Она. Не бутылка — Она. Ты на-де-ешь-ся застать ее там, и только это в твоих глазах еще не утратило смысл. Или, блин, хоть тень смысла.
Сегодняшним утром ты почувствовал себя ра-зда-вле-нным. О-по-ро-жне-нным. То был призрак скорой похмы; ты быстро пресек его заначенной с вечера двушкой пиваса. Но, ваще-то, пустота настигает тебя частенько. Ты как люк без крышки — сколько воды не лей, поверхность черная, голодная. Тотальная херня, каждая мысль только об этом, не думаешь уже ни о чем, кроме этого отвратного кала. Так-то одиночество — самая разумная форма быта, но без женщин ты сам не свой, паря. Даже после зло-по-лу-чно-го развода. Особенно после него. Твой взгляд ни за что не цепляется, он туп и рассеян. Ты как загибающийся от альцгеймера ‘кашка. И это, блин, не вли-я-ни-е курева или синьки, тут более глубокая подляна. Тебе нужно затылком чуять, что тебя ждут. ‘Веку нужен ‘век, или как там? Ско-ро-па-ли-тель-ны-е семейные отношения научили тебя шарахаться от мысли, что герла заимеет власть, заберется в голову. Потеря контроля — вот что у-гне-та-ет по-настоящему. Мразотное состояние, настоящая срань, но, блин, против инстинкта не попишешь. Нужно выжечь из себя пустоту. ‘Гаш уже не помогает, синька тоже. Какие же картишки остаются на руках? Найти такую, чтобы было над чем поломать башню. Охота? Не, загадка. И Она — загадка из загадок, блин.
Но есть проблемка. Она идет в отказ, глухо так, с концами. Ты помнишь, как бывало раньше: никаких сомнений, только вперед, ломая лед. Все само перло в руки без лишних тупняков. Сейчас ты ко-ло-тишь-ся в стенку, но отдачи нет. Это страшно, до усеру. Завышенные ожидания пополам с игнором. Накрутил себя. Бум-бум-бум в висках: «Она нужна, нужна, нужна!» Тошниловка. Сдать назад? Не варик. Проблемка намбер ту — ты не привык к отказам. Ты выбираешь только интересных, умных, за-га-до-чных. Своих, блин. Видишь в толпе, с первого взгляда. Бац! — в башне выстреливает, а над герлой загорается что-то типа фонарика. Ты долго за-пря-га-ешь, но быстро едешь. Обычно. А теперь вроде как запряг, но стоишь на месте, как последний мудак в поломанной маршрутке марки «Istana»…
Парам-пам-пам, вот и квартира Джонни-боя. На площадке темно, воздух сперт. Сортирной вони поменьше, зато нехило так прет от забитого кишкаприемника. Пролитое пиво, де-шман-ский парфюм и еще какая-то затхлая кислятина — капуста или типа того. Кладешь руку на дверную ручку. Вдруг новая мысль-выстрел: может, тяга к герлам — не причина, а следствие; может, тебе ваще не нужен никакой варик; может, это просто побег от чувства пустоты. Да, возможно, блин. Ты знаешь только два способа борьбы с этой херней: допинг и герлы. Вот так просто. Поздновато ты начал ре-фле-кси-ро-вать, паря, обратного хода в этой чибатухе нет. Включать заднюю — ссыкливо, не для ровных пацанов. По итогу все равно будешь квасить как последняя сучка. Ты это уже проходил, ой, как проходил.
Тебе плохо, страшно, отвратно. Ты ходишь по своим следам, хотя ненавидишь петлять. Она тебе нужна. Срочно! Иначе все — кранты, крышка, блу-жда-ни-я ночными коридорами. Ты кричишь, связки в клочья. Тебя не слышат. Твое робовое захлопнуто. В падике тихо, как в склепе. Ты кричишь. Кричишь ты. Ты. Ыт... Стопэ! Тянешься к дверной ручке, пальцы бьет тремор. Видишь свой скрю-че-нный остов — полудохлый прощелыга у входа в притон. Ручка падает вниз, дверь исчезает, в глаза бьет ослепительно ярким, желтым. Родная психушка. Вот ты и на вписке, блин.
Квартира Джонни-боя. Квартира — громко сказано. Единственная неимоверная комната, где из мебели промятый диван, убитый ти-ви и допотопный ПК, подмигивающий веселыми огоньками. Вокруг системника нагромождения пустой тары, с дюжину бутылок. Зеленое стекло, по-дсве-че-нно-е изнутри, напоминает гирлянду. Так и Новый год встретить не стыдно — ин-терь-ер, блин. Под потолком большущая, ват на сто пятьдесят, лампочка — такие используют строители, когда на хате идет ремонт. А у Джонни-боя ремонт, походу, уже в той фазе, когда на о-бста-но-вку строго по хер. Заляпанный подоконник, засохшая герань в тре-сну-вшем горшке, здесь же несколько томов макулатуры: «Голый завтрак» Берроуза, «Дерьмо» Уэлша, «Записки из подполья» ДФМ и прочая лабуда для любителей по-ва-зю-кать-ся в душевных помоях, стоя над трупом убитой женушки. Как по тебе, тут и думать нечего — в большинстве своем ‘веки отвратны, но если каждый мудила во-зом-нит, что он право имеет, то хер ли от мира останется? Глу-би-ны падения, блин. Было бы что там искать, в глубинах-то. Там ведь ничего нет, одна грязь, мерзость, и всякий прочий кал. А больше — ни хера. Дву-хмер-на-я залепуха, никакой загадки.
Открывается дверь в толчок; тебя обдает едким духом забористого тувинского ‘гаша. Из ту-ма-на выплывают обитатели квартиры во главе с Джонни-боем. Сучонок в лучшем виде: круто выпяченный, идеально отутюженный подбородок отливает сизым, глаза под чернявым, изящным, едва ли не де-вичь-им распадком бровей дико поблескивают — ну чисто проклятый поэт, щас на табурет читать стихи полезет (или застрелится); один отворот при-та-ле-нной рубахи заткнут за ремень кашемировых брюк, другой — небрежно вывернут; промеж зубов — здоровых и ровных, но уже по-дер-ну-тых пленкой яичного оттенка, какая бывает у заядлых любителей по-ба-ло-вать-ся шмалью, — торчит огрызок папироски.
— Какие люди в Голливуде! — Джонни стис-ки-ва-ет тебя своими тощими цепкими граблями. — Душа требует продолжения банкета?
— Пять дней дома не был. Скоро в розыск объявят.
— Дуть будешь? — О-тстра-ня-е-тся, кивая в сторону дымящегося лаза толчка. — Свежак кенты подогнали.
— Бухло есть?
— А, все на синей ветке. — Морщит красивое лицо (алые полосы губ, по-ро-хо-вой загар скул, молочная шея). — Так не интересно. Хотя... — делает вялый жест, — глянь, может, со вчера чо осталось.
Ты жадно о-бша-ри-ва-ешь узкую стойку — это место Джонни чинно именует кухней. Мойка завалена тарелками с остатками хавки, из крана со-чи-тся вода. Кап-кап, блин, кап-кап-кап. На ручку посудного ящика намотан пакет с эмблемой здешнего супермаркета. Это типа для мусора. Практично. Рядом с микроволновкой — по-ча-тая бутыль вискаря. Знакомое пойло: спирт с заваркой, катанка, отборный кал. В холодосе о-бна-ру-жи-ва-е-тся другой приятный сюрпрайз — полуторка колы, заледеневшая, жгущая руку. Смотришь на нее как на старого приятеля. Лыбишься. Затем хватаешь стакан — с виду даже не особо грязный. Бутыль покрыта инеем; в этой мимолетной и-спа-ри-не тебе открывается что-то высокое, даже благородное. Символ, разгадать который ты не в состоянии. Кстати, о состоянии: наполняешь стакан в про-пор-ци-и один к одному, до краев, с горкой. По цвету, как поросячий яблочный нектар в ясельной группе детсада, по запаху — как жженая карамель. Цвет, запах — не в этом суть, блин. Мелькает мысль: кофеин и этанол, экспресс-коктейль на пути к раннему инфаркту. Иди на ручки, малыш. Обратный отсчет, ключ на старт. Три-два-один... Тик-так… Поехали! О-про-ки-ды-ва-ешь. Один бесконечный глоток. Время удлиняется. Комната сжимается в точку, а после выстреливает шра-пнель-ю цветастых конфетти. Собрать этот кал воедино не так-то просто, но ты, блин, стараешься. Пол и обои живут своей, чутка оторванной от дей-стви-тель-но-сти жизнью. Постепенно картинка приходит в норму, пальцы снова чувствуют, глаза видят, а ведь на миг тебя будто не стало. Круто, если прикинуть, — раствориться в мировом эфире...
Дружки Джонни — безымянные бакланы, с лицами как кипа стертых лотерейных билетов, — разбрелись по углам и теперь пускают слюни, угашенные до степени полного мозгового па-ра-ли-ча. Сам Джонни на пике формы, несет ядерный бред, широко загребая граблями. Блин, да это он вроде как к тебе а-пе-лли-ру-ет, или чо. Не, ну точно — стоит в метре и явно взы-ва-ет к диалогу.
— Ты смотрел «Отступников» Скорсезе? — Щелчок пальцев перед носом. — Алло, уснул что ли, синелобый?!
Тебя окончательно выталкивает в мир. Комната прирастает звуками, запахами. Вы-ны-ри-ва-ю-щи-е из пасти Джонни слова пахнут ‘гашем и желудочным уксусом.
— Слышу. Смотрел.
Односложные глаголы. Сложности уже не помещаются у тебя в голове. Джонни-бой приваливается к балконной двери; стеклина под его весом гнется, издавая жалобный звук. В месте, где нагретая рубашка со-при-ка-са-е-тся с холодом поверхности, проступает дым-ча-тый силуэт. Мелькает мысль: будто часть души покинула тело.
— Так вот, там герой Мэтта Дэймона — настоящий плохиш, — рассказывает Джонни. — По сюжету он разводит тупых фараонов, мочит всяких левых ‘веков, а параллельно работает на мафию, типа как внедренная крыса местного босса.
— И? — Ты с трудом у-ла-вли-ва-ешь суть базара.
Джонни упирает ногу в дверь, чтобы было удобней стоять. Он продолжает:
— Короче, под занавес на вписку к Дэймону приходит отбитый следак — его играет Марк Уолберг. Он вкурил, что Дэймон конченая сука, но не может это доказать. Дальше хрестоматийная сцена: Уолберг стоит у двери — в прикиде киллера, с бахилами поверх говнодавов, — а напротив него Дэймон, у окна. На нем дорогой костюмчик, в граблях пакеты из смарта, типа образцовый законопослушный яппи. Но он ссучился, и Уолберг это знает. А Дэймон тоже не дурак, он просекает фишку. Дэймон смотрит на Уолберга, а тот — на Дэймона. У одного в глазах бешенство человека, пришедшего карать, у другого — пустота. Уолберг смахивает на Бэтмена или Роршаха. Дэймон похож на рыбу. Карася там, или пескаря. Дэймон говорит: «Ну и ладно». Уолберг спускает курок. Титры.
Джонни-бой давит лыбу, явно довольный собой. Чем этот укурок так впечатлился, тебе не ясно. Куда занимательней другой факт — дым-ча-тый оттиск за его плечами разросся на добрую треть двери. Стекло утратило прозрачность, вздыбилось сложным узором. Мелькает мысль: холодает.
— Типа ха-ха. — Твой голос лишен всякого эн-ту-зи-а-зма. — Постмодернизм, блин.
— Именно! — Джонни бьет в ладоши. — Это игра со зрителем, сальная шутка старого циника. Мол, понимайте как хотите, а я в бар. Ну не гениально ли?
— Постмодернизм... — Ты хмуришь лоб, припоминая. — Это искусство советских вахтеров.
— Чего? — Джонни ске-пти-чно вскидывает бровь.
— Не вникай.
Ты возвращаешься к кухонному столу и неторопливо сме-ши-ва-ешь себе еще один коктейль. «Кола плюс», «Кола с ножами» — торчит не по-детски, так что сердечку узко в ребрах. Правда, сегодня меньше, чем обычно. Видать, от запоя повышается то-ле-ран-тность к этанолу. Зато башка вроде как начинает складывать слова в предложения. Уже что-то.
— Ты гонишь, — не унимается Джонни. — Постмодернизм — примета времени.
— Или приговор. — Ты облокачиваешься на стол, пародируя позу собеседника. — Декаданс, блин.
— Еще какие умные слова знаешь? — склабится Джонни. — Череп не жмет?
— Жмет.
Слышишь свой не-е-сте-стве-нно серьезный голос. И тут же появляется чувство... ощущение... не, твердая уверенность, что на твоей переносице только что вскочил прыщ. Ты видишь во-о-чи-ю, как маленький гнойный бугорок на-ли-ва-е-тся соком.
— Все повторяется. — В твой голос досыпают злобных нот. — У нас тут типа новая Веймарская республика. Разруха, никаких перспектив, одни дегройды кругом. А мы — молодняк этой гребаной страны — как те герои Ремарка.
— Это как?
Походу, Джонни даже стало интересно.
— «Героизм, мой мальчик, нужен для тяжелых времен...» — в твоем левом по-лу-ша-ри-и плавает нужная цитата, а правое скребется о наливной прыщик, — «…но мы живем в эпоху отчаяния. Тут приличествует только чувство юмора».
Джонни-бой отклеивается от стекла, оставляя пятно, окруженное спа-я-нным морозным панцирем. Призрак в доспехах.
— Это про нас? — Джонни ложится на диван. — Я ведь о том и базарю: открытые финалы и всеобщая ирония. Так и живем. Но герои Ремарка сентиментальны, как бабы, а про наших кентов такого не скажешь.
— У нас не было войны. — Ты отхлебываешь из стакана. — В нас много снобизма, но копни глубже, и найдешь что-то типа веры.
— Война-то может еще будет, — задумчиво протягивает Джонни, — а вот про веру я не догоняю. Какая вера-то? В Бога верить стремно, да и где он, твой Бог? Или чо — предназначение, судьба? Мы ж из девяностых, чуви, нас еще в детстве отучили искать свое место в мире. Место там, где батареи греют и народ с голода не пухнет. Прав я, не?
— Сильно мы гордые для судьбы.
Стакан в твоей руке пуст, ты смотришь на него с не-ко-то-рым удивлением. Тянешь грабли, чтобы смешать еще, а мысль в голове уже тут как тут: если прыщик выдавить ногтем, будет больно и не-ги-ги-е-ни-чно.
— Так что за вера-то?
Диван под Джонни-боем визжит, как кошка под говнодавом. Сам Джонни вытягивается го-ри-зон-таль-но: кисти рук в замке на затылке, ступни ног повисают в воздухе — длины дивана не хватает. Носки гаденыш не снимает даже дома. Эстет, блин.
— У Ремарка пацаны с войны вернулись, они только в друг друга и верили. — Ты со-сре-до-то-че-нно возишь пальцем по дну пустого стакана. — А мы... хрен знает. Но что-то такое еще осталось. Что-то в глазах, лицах. Мы не научились безверию, о том базарю.
— Я так скажу. — Джонни чутка приподнимается, опираясь на локоть. — Люди — дерьмо. Власть — дерьмо. Мир — дерьмо. Что нам жизнь? Одни тупики и ремонтные работы. На это я говорю: «Ну и ладно». Я-то здесь, а значит, — гуляй рванина от рубля и выше. Я есть, знаю точно. А больше — ни хрена. И ржу над этим.
— Забавно родиться в эпоху постапокала. — Ты выговариваешь слова, надзирая за тем, чтобы каждое стояло на своем месте — по стойке смирно, блин. — Мы как валуны, которые полоумный ‘век бросил в реку за не-на-до-бно-стью. И вот лежим мы на дне и наблюдаем только воду и себя. Сечешь?
— Типа потерянное поколение?
— Типа. — Ты касаешься переносицы. Кожа потная, вонючая, но со-вер-ше-нно гладкая. Прыща нет. А ведь он был, точно был… — Мы верим только в себя. Знаем, что впереди пустота, но все равно куда-то идем.
— Наши стремления — это наши проблемы, — смеется Джонни. — Словами мэтра.
— Стремление — суть цивилизации.
Ты думаешь, что у Джонни злой смех. Мелькает мысль: когда-то этот ушлепок был капризным, мучающим предков ‘тишкой. Наверное, батя знатно о-ха-жи-вал его по фи-лей-ным частям.
— Мы прочухали, что любое стремление ведет к обрыву. — Тебе кажется, что твой голос звучит вес-ко. — Мы выросли с осознанием, что больше нет канонов, идеалов, вершин. Сплошь ноябрь, блин, и ничего кроме.
— Тебя послушать — так проще сразу удавиться, — зевает Джонни. — Я все-таки выбираю смеяться дерьму в лицо, а не жрать его.
Джонни смотрит недобро, с вызовом. Улыбка алых губ па-то-ло-ги-че-ска-я, словно нож маньяка. Ты думаешь: все-таки он был ненасытным, вечно просящим сисю ма-мень-ки-ным сынком. Хотя почему «был».
— Не так!
Ты опускаешь стакан на край стойки. Силу по пьяни рассчитать сложно, поэтому — вдребезги. Смотришь на у-се-я-нный осколками пол. Джонни кривится, обрыганы начинают тревожно ерзать по углах. Чисто ‘кашки в умиральной яме хосписа.
— Все наоборот, блин, — твой голос звенит. — Только вера и держит нас на плаву. В себя, в черта лысого, не суть. Глупая, бессмысленная, несуразная, но без нее уж точно лучше сдохнуть, — ты делаешь широкий жест, крестя граблей сте-коль-ну-ю лужу. — ‘Веки так устроены — им нужно за что-то держаться. Жить в вакууме невозможно. Врубаешься, о чем базарю?! — тебя качает; в левую пятку впиваются три мол-ни-е-но-сных жала. — Вокруг — гребаный пир во время чумы! — твой ор прокатывается по комнате, ре-зо-ни-ру-я о потолок. — И мы заражены, блин! И нам не уйти! Все смеются! Всем по хер! Бухаем, суки! Слышите вы меня?!
- 3 -
Ты сдающая позиции печенка Джека. Навернул кишки на краник — Чак Паланик, Чак Паланик! С трудом ра-зле-пля-ешь глаза, но лучше бы ты не... блин. Тошнота. Валяешься на сдутом матрасе, весь в липком при-па-до-чном поту, как тот всратый торчок из фильмов Дэнни Бойла. Тебе жарко. Тебе холодно. Вокруг полудохлые ‘веки, они типа даже не ше-ве-ля-тся. Лицо одного смутно знакомо — кажись, это дружок Джонни с тупым погонялом на «тэ» или «бэ». Пропитый обсос лежит рядом, его гря-зню-щий хаер лезет чуть ли не в твое робовое. Ты чуешь, что сейчас заблюешь и обосрешь все вокруг. Ты слишком слаб, чтобы поднять дро-жа-щий сфинктер и дотащить его до толчка — зассанного снизу до верху очка без ободка. Кре-пишь-ся, блин, из последних.
Обрыганы — все как один — мрут по углам. Но только не Джонни-бой. Этот — еще на ногах, пляшет под нер-ви-че-ский русский блюз. Мелодия берет в за-ло-жни-ки пространство вписки. Длинные проигрыши, давящее соло бас-гитары. Снова и снова, как порноролик из линчевского «Шоссе в никуда». Джонни дергается, машет граблями, выбрасывает пятки то вправо, то влево, совсем не в такт. У него своя ско-рость. Он гнется, скру-чи-ва-е-тся в узел, ра-зма-ты-ва-е-тся обратно, плавает в дре-мо-тном киселе. Голова за-про-ки-ну-та, волосы размазаны по отворотам мокрой рубахи. В нем уже мало от ‘века. Ты не видишь пены на губах и съе-ха-вших на затылок зенок. Но ты их чуешь. Танец Джонни воняет ноябрем и безумием. А за окном все та же ше-ве-ля-ща-я-ся ночь.
Лампочка под потолком — выбитый глаз. О-тсве-ты фонарей — шахматная издевка, на-по-ми-на-ни-е о психушке. Твоя память бьется на фрагменты, бред ме-ша-е-тся с явью. Ты помнишь дождь, град. Потом снег. Кажется, это было сегодня. Или вчера? Или тысячу гребаных лет назад?
Ты со-ци-о-па-ти-че-ско-е воспоминание Джека. Небо цвета ковровой бом-бар-ди-ро-вки срыгивает пепел — тяжелый, как сами бомбы. Свинцовая муть кружит перед окнами, ме-че-тся в арках этажей. В твоей руке бутыль па-ле-но-го вискаря. Ты сжимаешь теплую резьбу. Вдыхаешь свою вонь: кола, алкоголь, табак и что-то мятное, типа зубной пасты. Тебя га-дли-во воротит. В ти-ви скалится Масляков, его ло-сня-ща-я-ся придворной иронией харя напоминает каждого из совковых генсеков. Всрастого Брежнева, сиськи-масиськи, ни пуха ни пера — к черту!
Вспышка, новый кадр. Ты сидишь в падике, у кишкаприемника. В тря-су-щи-хся пальцах потухшая сижка. Хочешь забыть все, что натворил. Уснуть в коробке из-под телевизора. За-быть-ся. О-бре-сти дзен. Стать мирным бомжиком, как тот горбатый ‘кашка у падика... За бортом уже не мокрый снег, но реальная метель. Долбаный Ир’кутск по-гру-жа-е-тся в зиму, утопая в желтом, ги-бель-ном. Небо — сливной коллектор, улицы — продолжения сточных канав. Ты падаешь, но не вниз, а вверх, как в еще одном фильме, ли-ше-нном всякой надежды. Голова кругом. При-па-да-ешь к окурку. Где спички? Ага, вот. Куришь крепкие без фильтра. Вкус о-тсу-тству-ет. Пепел падает на рубашку. Бац! — искра на манжете, дырка с о-бу-гле-нны-ми краями.
Щелчок. Ты лежишь в пустой ванне. Прямо в джинсах и о-бга-же-нной рубахе. Воды, света — ни хера. Перегар, вонь, пот. Твой перегар — оружие массового поражения. В руке — косяк. Откуда, блин? ‘Гаш про-са-чи-ва-е-тся в легкие. Ты за-тор-мо-же-нно крутишь башней. Свет выгорает, звуки при-ту-пля-ю-тся, будто тебя усадили на дно аквариума. Тушишь косяк о кафель. Кри-чишь в зыбкую темноту. Голос отражается от стен, ви-бри-ру-ет, бродит взад-вперед. «Ты», «ты», «ты», — шепчут стены. Дверь швыряет пучок света на стиралку — за-гло-хшу-ю, до отказа набитую шмотьем. Видишь два слипшихся носка, ком-ка-нно-е полотенце в пятнах цвета кофе «три в одном». Тут же — раковина, ге-ни-таль-ны-е подтеки, оспины за-бы-чко-ва-нных сиг. Под раковиной валяется бутыль из-под минералки, в стенке прожжено отверстие — жадный детский ротик с по-две-де-нны-ми грифелем губками. Ты знаешь, чего он хочет. Сла-до-стра-сти-я.
Все ме-ня-е-тся, но не чертов блюз — музыка вокруг, внутри, всюду и нигде. Балкон. Ты стоишь по щи-ко-ло-тку в мокром снежном месиве. Пальцы сводит. На тебе футболка с надписью: «Hi, I am Mr. Right» — хороший анекдот, всем смеяться! Ошметок снега падает за шиворот. Могильная струйка ползет по сгор-бле-нно-му хребту, и ниже, ниже. Уже под резинкой трусов. Глубже, давай! Тебя колотит. Где-то ухает перекресток, редкие машины снуют па-у-ти-ной улиц, точно горстка вшей в спу-та-нных патлах города. Меж машин бредут ‘веки: глаза, рты, мысли заслонены вскло-ко-че-нны-ми воротниками и ма-сля-ни-сты-ми фонарями с пуль-си-ру-ю-щим зевом по центру. Черная дыра и ходячие мертвяки из фильмов Джорджа Ромеро. Кал. Кал. Кал.
И вдруг — Она! Здесь, рядом, посреди гребаного балкона. Стоит у открытого окна. На бледных щеках играет ли-хо-ра-до-чный румянец. За спиной — бе-сно-ва-та-я ночь. Она делает ма-ня-щий жест, намекая на стакан с пойлом. Ты даешь, сперва о-по-рож-нив. Ей уже хватит. Как и тебе. Ее коротко о-стри-же-нны-е, чуть вьющиеся темно-русые волосы по-ло-щет ветер. Она долго смотрит на пустой стакан — грани ловят сполохи не-зде-шне-го пожара. Затем вытягивает руку прямо в пасть улицы. Снежинки кружат вокруг пальцев — на одном по-бле-ски-ва-ет кольцо со злым камнем. Кровь и снег. Winter is coming. Пальцы разжимаются. Стакан исчезает в клу-бя-щей-ся мгле, как вин-то-во-чна-я пуля. Ты часто моргаешь. Тебя шатает от каждого вздоха ветра. А что Она? Запрокидывает голову, хохочет. Долго, жадно, у-пи-ва-ясь.
Сразу после — ровный мужской голос. О-ка-зы-ва-е-тся, у этого блюза есть текст. Мужчина говорит:
Она считала, что следует идти до конца во всем —
и говорила снегу: будь снегом и дождю: будь дождем.
Прогноз погоды как пре-дчу-встви-е: «В ‘Кутске ожидаются метели». Никаких сомнений — только страх. Что ничего не получится. Что ты гребанный слабак. Мелкий про-вин-ци-аль-ный неудачник. Веничка Ерофеев. Боишься, что твой потолок — э-ле-ктри-чка «Академическая - Большой луг». Тебя скручивает все туже, и ты все ближе к финалу. Ты — урина Джека. Сортир поколения. Герой по-шлей-ше-го военного боевика. Сохлая кровь на за-то-че-нных гранях саперной лопатки. Немец, косящий русских смертников под за-вы-ва-ни-я Вагнера. Кишки на гусеницах танка. Слюни на усах комдива Котова. И всякий прочий кал.
Такой миг: все черно-белое. Грани оголяются. Становятся резче. Ноябрь. Грязное фронтовое небо. Птичий ужас прохожих. Ты знаешь: чтобы воскреснуть, нужно у-бить. Эту вьюгу. Этот город. Себя. Разрушить до основания. Стереть. Как Макс Пейн, о-бо-жра-вший-ся обезболов. Обойма пуста, но верный кольт еще дымится. Альт эф четыре. Blackout. Стакан летит сквозь ночь. Ее ночь. Она — Мар-га-ри-та.
Она стянула любителя гор в долину слепую —
и успокоила мраморным поцелуем.
Подходит. Ты чувствуешь ее дыхание. Горячее, влажное, во-жде-ле-ю-ще-е. Ее запах — вино и напалм. Вер-ти-каль-ны-е, как у барса, зрачки о-тли-ва-ют медью. Футболка ли-пнет к острым сосцам. Ты что-то говоришь — о чувствах или типа того. Веко бьет тик. В ушах звон. Не можешь о-ста-но-вить-ся, все лепишь и лепишь, без у-мол-ку. Барахтаешься. Тонешь. Вот он — всратый конец света. Ту-рин-ска-я лошадь. Ницше. Дурка. Ее рот на уровне твоих глаз. Удар сердца. Разряд. Тик-так. Губы касаются твоего го-ря-чеч-но-го лба. Не поцелуй — метка. Она смеется — бе-зу-дер-жно, безбожно. Смех вли-ва-е-тся в рев метели. Ночь и этот смех. Смех. Хемс. Хем-с-ссс...
Теперь сквозь окно в Ковчеге смотрит Она —
как ее дети тонут в ужасе, как их заливает тьма.
Голос умолкает. А дальше — только не-во-о-бра-зи-мо-е, по-ту-сто-ро-нне-е, вы-мо-ро-чно-е соло бас-гитары. Оно длится и длится, топя город. Соло Великого потопа.
- 4 -
Ты сидишь в коридоре, о-кру-же-нный головами и телами. Something happened. Что-то важное, из-за чего ты здесь. Они говорят: «В квартире трое суток происходит де-бош». И еще: «Собирай манатки, нарик, в отделении ра-збе-рем-ся». Какое странное слово — де-бош. Что-то французское, с при-вку-сом белого вина. Монмартр, café, открытые ве-ран-ды, запах све-же-мо-ло-то-го кофе и пе-ре-ли-сты-ва-е-мых газет, постукивание трости по брусчатке, ин-те-лли-ген-тный скрип стульев, белая шляпа на кра-е-шке стола, ветер гоняет мусор... Бум-бум! Да, точно — ты в мусарне, в обезьяннике на улице Фурье. Улица, ночь, про-мо-ро-же-нна-я клетка «бабона». Из ми-зер-но-го, забранного решеткой окна виден сугроб с ядовитыми собачьими кляксами. Бричка дергается, ви-зжит сцепление. Водила — носатый грузин с пло-то-я-дны-ми черными глазками — о-бо-ра-чи-ва-е-тся, гогочет в усы: «Чо, пацан, попал ты — 2-2-8 оформлять будем».
В коридоре душно и холодно. Кожные складки вокруг робового вы-кри-ста-лли-зо-вы-ва-ют бусины похмельного пота. Тебя о-тпу-ска-ет и начинает жестко ра-зби-рать. Попасть на Отмену в мусарне — хуже не придумаешь. Минуты тянутся медленно. Слишком. Не-стер-пи-мо. Время ма-те-ри-аль-но и остро. «Кола с ножами», а теперь — секунды с ножами. Они режут, вспа-ры-ва-ют. Ты чуешь свой запах, ты, блин, и-сте-ка-ешь всеми жидкостями, что можно о-бна-ру-жить в параграфах учебника по би-о-ло-ги-и за пятый класс. Время больше не ли-ней-на-я категория. Ты ползешь по у-гло-ва-то-му коридору, зубастые стены плюются твоим мясом. Ошметки падают на пол, собираются вместе. На миг ты — это снова ты. Но не-о-боль!-боль!-боль!-щай-ся — тебя снова жуют, месят, пе-ре-ва-ри-ва-ют. Ты отрыжка стен. Раковая ме-та-ста-за толстой кишки Джека. Тот самый кал.
Два бугая в форме уводят Джонни-боя. Тащат быстро и умело, схватив под руки, чуть ли не о-тры-ва-я от пола. Говнодавы Джонни тор-мо-ша-тся в дверном проеме. Он весело кричит на всю мусарню: «Покажите мне Дукалиса! Я хочу, чтобы меня допрашивал добрый мент Дукалис!» Туц-хряшь. Буль-кань-е. Гогот бугаев. Хлопает дверь. Джонни больше не слышно.
Коридор — как по-дзор-на-я труба. Рядом — ждущие допроса ‘веки и ‘кашки. Мычат что-то не-ра-збор-чи-во-е, вязкое. Один при-ва-ли-ва-е-тся к тебе. Косишь глазом в его сторону. Серая хламида и бугор на месте плеч. Горбун. Тот самый, что ка-ра-у-лил струи дождя у падика. Ночной ро-ман-тик. Вот так встреча, блин. Су-до-ро-жно о-ттал-ки-ва-ешь, пальцы за-стре-ва-ют в ткани. Не можешь вытащить. Вдруг ‘кашка по-во-ра-чи-ва-е-тся. Из розовых десен торчит всего один зуб. Зо-ло-той. «Тебе еще не надоело, брат?» — говорит он. Ты ждешь мра-зо-тно-го шам-кань-я, но этот чудной ‘кашка со своим одиноким клыком вы-го-ва-ри-ва-ет слова по-я-сне-е многих. «Тебе еще не надоело?» — по-вто-ря-ет он.
Ди-сфун-кци-я. Де-зо-ри-ен-та-ци-я. Де-мен-ци-я. По-то-лок кра-ши-тся. Все, что ты хо-чешь, — бе-жать. По бе-ско-не-чной до-ро-ге. Без це-ли. Без про-шло-го. Ты сме-ешь-ся, но те-бе не сме-шно. Те-бе не бы-ва-ет сме-шно. Ни-ког-да. Ты — у-ны-ло-е гов-но Дже-ка. Пы-та-ешь-ся вдо-хнуть. У те-бя нет ле-гких. Гла-аз. У-шей. Рта-а. Ти-ик-та-ак, бли-ин. Ти-и-ик-та-а-ак...
‘Кашка бе-ззву-чно хихикает ра-ззя-вле-нным ртом. Золотой зуб типа как по-дми-ги-ва-ет тебе. Приступ проходит. Ста-но-ви-тся чутка полегче. Снова можешь дышать. Коридор как коридор, всратый мусорской мирок. Угораздило же. Пора вы-гре-бать из этого кала. Встаешь. Навстречу тут же вы-ва-ли-ва-е-тся Джонни-бой. Ни наручников, ни других знаков при-ну-ди-тель-но-го заключения. Чудеса, да и только. Говорит, что нас о-тпу-ска-ют. Говорит, что за это пришлось подписать сви-де-тель-ски-е на цыгана, которого местный начальник — капитан с не-про-и-зно-си-мой татарской фамилией — решил у-па-ко-вать поплотнее нашего. Говорит, что на хате наркоты не нашли, но как бы есть анализ крови, и тут уже ситуевина ра-зви-ва-е-тся не в нашу пользу. Говорит, что донос на чурку — вы-ну-жде-нна-я мера. Это, мол, выиграло нам время: нас пока о-фи-ци-аль-но не оформили, а на вахте пе-ре-смен-ка или типа того.
«Ноги, ноги, ноги!», — Джонни-бой цокает языком, летит к выходу. На КПП два опера — дымят в небо, на тебя и Джонни ноль вни-ма-ни-я, но стоит вам подойти к ограде, один окликает: «Эй, пацан! Купить кой-чего хочешь? У нас с корпоративной скидкой, отвечаю». Ты у-ско-ря-ешь шаг, не оглядываясь, а вот Джонни гребет на попятную, о-бме-ни-ва-е-тся с мусорами шуточками. Те ржут, но задержать не пытаются. Ладно, о-тско-чи-ли, и на том спасибо, блин.
Страх ареста немного при-ту-пля-е-тся, включается соображалка. Ну и натворил ты делов, Марк. Пять дней запоя. Или шесть? Далеко же можно укатить на допинге из бе-зо-тве-тных чувств и нереализованной похоти. Дальше некуда, в натуре. Дальше — петля или тюрьма. Или инфаркт от передоза, в ту же калитку. Притон, бычки, блювота. Квартира Джонни-боя — центр воронки. Слепое пятно твоей мен-таль-ной биографии. Джонни... не твой друг. Больше нет. Он вообще никому не друг. Такие любят только себя. И ради себя переступят через кого угодно, да хоть бы и через того несчастного ‘века — он будет чалиться на зоне по вине малыша Джонни. Вы-ну-жде-нна-я мера, блин. Тьфу, ну и мразь!
На улице тебя о-кон-ча-тель-но отпускает. Вдыхаешь бесстрастный ночной воздух. Сердце бьется ровнее. Смотришь на Джонни, который резво трусит рядом, на-сви-сты-ва-я известную песенку: «So messed up I want you here…» Джонни весел и вроде как даже не устал. Ни фиников под глазами, ни убийственного запаха изо рта; и зубы — такие белые, острые, прямые; налет от ‘гаша — и тот куда-то делся. Хоть сейчас на свадьбу, с бантом вокруг шеи, в по-да-ро-чной упаковке. Лучший друг подружек невесты, блин. Он улыбается, он насвистывает: «Now we’re gonna be face-to-face». Он смотрит на тебя, в его зрачках пляшут желтые искры. С него — все как с гуся вода. Такие у истока любой заварухи, но никогда не платят по счетам.
Джонни-бой крутится на месте, его голос журчит, пе-ре-ли-ва-е-тся: «Now I wanna be your dog, now I wanna be your dog...» Комедиант. Ублюдок. Твой черный человек. И твой лоб в испарине — пы-та-ешь-ся понять, с чего все началось. Мысль-молния: возможно, с одного мертвого поэта. Да, блин, возможно что и так. Думаешь о его стихах. Мужчина стоит перед закрытой дверью, за дверью — ночь, в ночи — смерть. «Не я, и не он, и не ты. И то же, что я, и не то же. Так были мы где-то похожи. Что наши сме-ша-лись черты».
Джонни-бой. Выдвинутый вперед, гладко выбритый, за-но-счи-вый подбородок. Небрежные жесты, наглый взгляд, змеиная улыбка ярко-алых губ. Он обгоняет тебя, начинает выделывать не-су-ра-зны-е па в центре пустой улицы. «Now I wanna be your dog!» Он смеется, он танцует, этот славный малыш Джонни. «Горячешный сон волновал. Обманом вторых очертаний. Но чем я глядел неустанней. Тем ярче себя ж узнавал».
Ты кладешь руку ему на плечо. «Хватит», — произносит твой голос. Но Джонни уже на тротуаре, скла-би-тся клетью великолепных зубов, продолжает выплясывать. «Now I wanna be your dog!!» Он танцует в одной рубахе, энергично и живо перебирая длинными ногами. Он кланяется — насмешливо, с издевкой, похожий на зажженную, полную дурмана самокрутку. Он говорит, что никогда не спит. Он говорит, что никогда не умрет. Он откидывает голову назад и ра-зра-жа-е-тся глубоким горловым смехом — сегодня, как и всегда, он всеобщий любимец, этот малыш Джонни. Ноги его легки и проворны. Он танцует ночью и днем. Он никогда не спит. Он танцует и танцует. И говорит, что никогда не умрет.
«Лишь полога ночи немой. Порой отразит колыханье. Мое и другое дыханье. Бой сердца и мой и не мой...» Джонни-бой вступает в пределы твоей тени, оборачивается вокруг оси — еще раз, еще, и еще — кру-ти-тся на пятке, как цирковой трюкач. Ты моргаешь, стараясь уловить его прыткие движения. «Now I wanna be your dog!!!» Порыв ветра. Хлопок в ладоши. Ты один. Танцуешь под фонарем. Топчешь свою тень. Ты Шива, бог хаоса. Тик-так.
Улица раздается в стороны, ее дальний конец наливается темно-синим. Кончилось. В голове ясно и выметено. От мерзкого привкуса сводит скулы. Баста! Ты выжил, и больше об этой чибатухе сказать нечего. Иногда банальное осознание того, что вот он ты — живой — уже победа. ‘Тишки, ‘кашки, ‘веки, ’гаш, мусора, говнодавы проваливаются туда, где им и место. Они скребут о стенки в самом темном подвале твоего подсознания. Бесовский час минул, граница на замке, ключ в кармане. Потерять бы его, этот ключик, но, блин, такая миссия реально невыполнима. Ключ отпирает дверь. Ты это знаешь. И Он тоже. Вот и посмотрим — кто кого.
Метель откатывается на восток, в сторону Байкала. Самый тихий морозный час. Заборы в хрустящей корке искрящегося льда. Пар над открытым дорожным люком. Белый сырой столб поднимается до третьих этажей и тает в редеющих карнизах дореволюционных кварталов. Ты бредешь предрассветными проспектами. Небо не голубое, город — не золотой. Все, что тебе остается, — вернуться домой.
Опустошение. Опорожненность. И еще несколько полых, лишенных фабулы слов. Останавливаешься. Улицы, фонари — позади. Ты стоишь на подмороженной осенней обочине. За плечами привычная тяжесть рюкзака. Впереди — беспощадная гладь трассы. Ты собран, подтянут, готов. Ты не дома. Еще нет, блин.
Картина третья
«Эол»
посмотри как блестят бриллиантовые дороги
послушай как хрустят бриллиантовые дороги
смотри какие следы оставляют на них боги
чтобы идти за ними нужны золотые ноги
чтобы вцепиться в стекло нужны алмазные когти
Илья Кормильцев
- 1 -
Но у Марка не было ни алмазных когтей, ни других изящных атрибутов, указывающих на принадлежность к высшим кастам. С золотыми ногами тоже как-то не задалось — они у него, если присмотреться, самые обычные: ботинки с высокой шнуровкой, а внутри — натруженные, мозолистые ступни. Бывалая плоть.
Над ним хмурилось низкое небо позднего октября. Скоро должен был начаться дождь, или сразу, без перехода — снег. В Сибири с этим просто: душное лето прерывает ускользающая прозрачная осень, а в двадцатых числах октября зима берет свое. Она приходит с поземкой, сугробами и вороньим карканьем у ограды погоста. Даже отсюда, с далекого выката федеральной трассы, секущей давно убранные поля на неравные доли, Марк видел клубни лениво кружащих птиц и черные отметины крестов — в раздетой роще, меж болезного вида берез и осин. Михайловка лежала тут же, на склоне пегого скособоченного холма. Деревенские заборы примыкали к кладбищу и болотистой прогалине с огарками высохшего тростника по ободу. Болото, кладбище и деревня ложились в один бегло брошенный на сторону взгляд. Все жмется друг к дружке, не выдохнуть. Земли много, а все ж тесно, — то ли от того, что в стужу разумней держаться рядом со своими, то ли от укорененной, все перемогшей неустроенности русского человека, с одинаковым равнодушием взирающего на жизнь и смерть.
Трасса была пуста. Через прерывистую линию разметки время от времени перемахивал резкий порыв, поднимавший вихри пыли и придорожного мусора. Рюкзак, заменявший в походе стул, а иногда и стол, послушно лежал на земле, прислоненный к верстовому столбу. О рюкзаке думалось с нежностью, как о старинном друге: верный, испытанный, он вселял в Марка надежду на благополучный исход затеянного предприятия. Октябрь — не лучшее время для путешествий автостопом, но для Марка это не имело значения. Он был в разводе — данный факт плохо укладывался в голове, а ведь именно развод побудил его выйти на трассу этим будничным пасмурным утром. Спонтанное, но в то же время инстинктивно выверенное решение. События последних месяцев требовали осмысления, и — Марк знал наверняка — только трасса могла дать ему время и простор для нужного душевного настроя.
Марк женился рано, после первого курса университета. С Ольгой, будущей супругой, он познакомился незадолго до, на старте лихой студенческой жизни. Иркутский Филфак был равно знаменит выпускниками и пьянками: к первым Марк причислить себя еще не успел, зато ко второму приобщался по мере сил. Пили все, что горит; и даже то, что нет, проглатывали с охоткой, забыв о закуске. Времена стояли веселые и по большому счету беззаботные. Позже на них навесят множество сытых, сытных бирок, но Марку они запомнились тем, что в городе как-то особенно пахло. Пронзительным ветром с водохранилища. Ранним листопадом. Свежей выпечкой. Когда тебе семнадцать, в Иркутске сентябрь, и набережные одеваются парадным пурпуром, — сложно не влюбиться.
В аудиториях Оля сидела через две парты от Марка. Он все больше наблюдал ее со спины: смотрел на огненные кудри, слушал гротескно низкий, почти мужской голос, думая о том, что девушка эта, пожалуй, знает себе цену. Такой палец в рот не клади — откусит. В Оле он сразу распознал иной биологический вид, и его увлекла идея обладания этим удивительным созданием. Он желал познать, охватить ее всю, проникнуть в ее загадку. А еще он просто ее хотел, и не стоило доискиваться иных причин, — молодая кровь взыграла, точно игристое вино, почуявшее свободу пустого бокала.
К исходу первого семестра они уже начали встречаться, к Рождеству произнесли заветные слова, и вскоре, длинным летним днем в начале июня, сразу после сессии, по городу прокатилась удалая студенческая свадьба, траты на которую ограничивались покупкой ящика водки и перешивкой школьного выпускного платья Оли на «брачный» манер. Гуляли недели три, меняя квартиры и транспорт: утром похмелялись под Старым мостом в центре города, в обед уминали холодные беляши (на перроне, ожидая электричку), а ночевать укатывали в садоводство, к друзьям. Прохладный бор на 5215-м километре Транссиба, станция «Голубые ели», двухэтажный деревянный дом с окнами на реку, скрип ветра в чердачных антресолях, запах прелой хвои... В первом сиреневом свете Марк открывал глаза и видел кипу спутанных рыжих буклей, покачивающихся в такт дыхания. Он проводил по ним рукой. Оля отмахивалась, оттопыривая нижнюю губу — смешно, совсем по-детски, — не просыпаясь.
Быт не разрушил их отношения, но оголил характеры. Ольга была властной, расчетливой женщиной, она вырвалась из нищеты девяностых и с ранних лет укрепилась в мировоззрении на манер незабвенной Скарлетт О’Хары. «Бог свидетель, я скорее украду или убью, но не буду голодать», — говорила Скарлетт. Оля выражалась столь же ясно, а еще она, как и героиня знаменитого романа Митчелл, пребывала в убеждении, что мужчина — вернейший инструмент для избавления от жизненных тягот. Она училась, работала, не увиливала от обязанностей, но все в ее поведении указывало на подспудно лелеемую мысль, что труды эти — временные, что они не более чем разумная непраздная плата за вхождение в круг семейной жизни, каковая жизнь, в конечном итоге, есть мерило и основа бытия.
Марк стал тяготиться воззрениями жены. Он легко отдал ей инициативу по обустройству домашнего очага, но навязчивая меркантильность и ограниченность — как он стал определять эти ее черты для себя — шли вразрез с движением его души: каждодневным, вдумчивым, свободным от штампов, тяготеющим к постижению смысла явлений, а не употреблению частных свойств оных себе на пользу. Марка занимали история, литература, география, он много читал, любил одиночные походы в горы и прогулки под сенью опадающих тополей. Впереди маячили образы аспирантуры, кандидатской, путешествий, а возможно, даже переезда за границу. В его лексиконе было бесконечное множество слов, но самых важных — тех, ради которых жила Оля, — там недоставало. Он любил прилагательные, она — глаголы; его чувства к ней исчерпывались выражением «терпеливое равнодушие», а ее к нему: «Иди, посуду помой».
К середине третьего курса Марк осознал, что его семейная новелла застряла в сюжетном тупике, и это был один из тех пыльных углов жизни, откуда бесполезно искать выход. Слишком высокие стены, слишком мало желания на них лезть. Ольга... рыжая кошка с хрипотцой в голосе — этот биологический вид лег на полку и больше не интересовал Марка. Однако по натуре он был мягким, гибким, с детства избегающим конфронтаций, предпочитая драке переговоры. Это не было трусостью, скорее — болезненным нежеланием взаимодействовать с социумом через грубые вербальные практики. Ему хотелось, чтобы люди сами понимали неочевидный смысл его намеков и делали соответствующие выводы. Он желал, чтобы Оля заговорила о разводе первой, но эта женщина демонстративно не различала полутонов. Она как бы заявляла миру, чтобы тот прогнулся под тяжестью ее когтистых лап или шел к такой-то матери. Марк не хотел начинать этот разговор, а она предпочитала игнорировать все более очевидную скудость их вечерних перемолвок.
Затянувшаяся неловкая пауза разрешилась самым постыдным и тривиальным образом. Как-то в пивной, во время пятничных посиделок, приятель поведал Марку, что на день рождении их общего знакомого (где Марк не мог присутствовать) Оля выпила больше обычного, после чего со всей присущей ей грубоватой откровенностью выдала гостям матримониальные планы. Вкратце они сводились к скорой беременности, уходу с работы и добровольно-принудительному перекладыванию ответственности за их с «малышом» будущность на плечи супруга. Марк взбесился. Дело было не только в намерении Оли завести раннего ребенка, — хотя и это вызывало огромные возражения, — но и в том, что жена собиралась воспользоваться беременностью как оружием, окончательно привязав мужа к себе. Марк понял: его хотят лишить свободы, контроля, причем сделать это Оля собиралась, прибегнув к низкой женской хитрости, — осознание последнего теснило грудь особым низкочастотным бешенством, ведь Марк всегда почитал себя выше манипулятивных приемчиков в духе дешевых реалити-шоу.
Он пришел домой, хлопнул дверью, разгоряченный, после полбутылки коньяка, выпитого в компании все того же приятеля. Диван, включенный телевизор, запах гречки с кухни, и она — полулежа, в расслабленной, намекающей позе; мужская рубаха — его рубаха! — на голое тело, задранные к верху коленки в красных пятнах (так бывает, когда усердно моешь пол); в квартире и вправду чисто, ни пылинки; бывший и будущий президент что-то уверенно излагает по ящику, он на огромной сцене, в вызывающем фиолетовом галстуке, а у людей в зале странно напряженные, внимающие лица... Оля слегка повернула голову, — качнулся и тут же замер пожар волос, — а затем тепло, по-домашнему, улыбнулась мужу. Марк приблизился, наклонился и коротко ударил тыльной стороной ладони. Потом развернулся, выбежал в коридор, скатился вниз по лестнице. А перед глазами все плясала и плясала сливовая удавка на шее Гаранта.
Квартира у них была съемной, и он собирался оставить ее в полном распоряжении бывшей — раз и навсегда бывшей! — жены. Ольга рассудила иначе. Через несколько дней, решившись наконец заехать за самыми необходимыми вещами и документами, Марк нашел их еще недавно уютно обставленную студию в состоянии унылого опустошения, с голодно распахнутыми дверцами шкафов и гадливыми пятнами на засаленном, лишенном белья матрасе. Оля осталась верна себе — на единственном окне она размашисто вывела алой помадой: «Желаю тебе всего самого наихудшего». Этот эффектный эпилог встретил Марка первым, а сразу после была теряющая хвоинки лиственница, растущая во дворе и хорошо видная из окна в любое время дня и ночи. Дерево шумело на ветру, касаясь подоконника, издававшего тихие щелчки — будто ход метронома. «Всего самого наихудшего», — повторил Марк про себя. Позже он узнал, что Оля уехала на юг, к родне. Больше он ее не видел.
Ему казалось, что он легко перешагнет через два с половиной семейных года и вернется к прежней жизни. Но как прежде он уже не мог. Что-то провернулось в нем, глубоко, под ребрами, и засело — не вытащить. Без ее вещей, запаха, волос, — неизменно забивавших слив под ванной путанными комьями бурого цвета, — квартира зажила бобылем, заросла, точно бородой, густой атмосферой мрачной отрешенности. Марк с мазохистским наслаждением погрузился в омут: забросил учебу, стал завсегдатаем пивных, начал смачно заливаться, однако не было ни былой удали, ни прежних, всегда готовых поддержать его начинания товарищей. Он завел новые знакомства — неприятные, липкие — когда взаимные фальшивые улыбки охотно принимаются за чистую монету, лишь бы вычеркнуть себя из пустой квартиры с ее запавшими фингалами углов и горой немытой посуды в мойке.
Ближе к зиме Марка захватила разрушительная страсть. Те месяцы он запомнил плохо. Притоны, дурман-трава, женщина с булгаковским именем и таким же норовом. Она влетела в его жизнь на кочерге затяжного запоя, и он бросил к ее ногам все, что имел, — из боязни одиночества, пьяного исступления и тягостного жжения, скопившегося в тазовых костях. Бурный роман продолжался некоторое время, плавя свечку жизни с двух концов, — а конец здесь мог быть только один, и Марк уже различал его в подрагивающем мареве похмельных пробуждений. Однажды, в конце лета, он не смог встать — столб воздуха вжал его в скрипучие пружины кровати, лишив дыхания. Над ним разверзлась воронка: ее темно-синие и вязкие, как гуашь, внутренности судорожно подрагивали — так втягивается и тут же расходится брюхо осатанелой шавки в устланном окурками и нечистотами дворе панельного гетто. Ухватившись за край гаснущего сознания, Марк каким-то чудом сумел набрать неотложку. Укол в ягодичную мышцу. Холодная испарина на сглатывающем язык кадыке. Приговор в равнодушном подбородке доктора: «Если будете и дальше вести такой образ жизни, молодой человек, то через год ляжете с инфарктом».
Чувство вплотную подступившей смерти — не из тех, что можно игнорировать. Недвусмысленная развилка, не оставляющий выбора перекресток. Марк не был готов подвести черту — вот так, глупо, на полу опостылевшей квартиры. Для такой смерти он был слишком горд или слишком робок. Больше месяца он отлеживался дома: бросил пить, вернулся к книгам, собрался подать на восстановление в университет. На звонки дружков по притону не отвечал, а вечно смеющуюся женщину — ах, бесовской ее смех! — постарался забыть, хоть это было не просто. Однако что-то мешало ему вновь принять обеты единоличного распорядителя собственной судьбы. После разрыва с Олей, алкогольных и наркотических трипов, безумия последнего года, ему требовалось понять, куда и зачем он идет. Прежняя жизнь рассыпалась калейдоскопом битого стекла, а новая никак себя не обозначила.
Наступил октябрь, засквозило скорой зимой. Марк знал, что большинство дней в году начинаются одинаково — звенит будильник. Нынешний вторник тоже был из этих. Еще до рассвета Марк собрал рюкзак, натянул любимые походные ботинки и отправился на станцию электрички, доставившей его в деревню Михайловка, на 5081-й километр Транссиба. Рядом пролегал участок федеральной трассы «Сибирь». Марк вышел на обочину, осмотрелся. По его лицу скользнула улыбка — он заприметил верстовой столб, торчащий прямо, как часовой. Марк кинул рюкзак под себя и привалился к приятно холодящему спину железу. Впереди лежала беспощадная гладь трассы. Ему только что стукнул двадцать один год.
- 2 -
Трасса заставила проявить выдержку, но затем вернула свое. Карбюраторный стук мотора, гнилые подкрылки, поеденные ржавчиной оригиналы советских дисков: у обочины тормознула черная «Волга», всем своим видом дававшая понять, что ее владелец имеет богатый опыт постперестроечного выживания, отягощенного слабой социальной адаптивностью. За рулем — тертый сибиряк неопределенного возраста; что-то между «не по годам сдал» и «хорошо сохранился». Машет рукой, приглашая в салон. Марк заприметил буквы, выбитые на широкой жилистой ладони: «УСТЛ». Расшифровка не заняла много времени. Паха — самоименование, намекавшее на приверженность хозяина «Волжанки» бравурно-нагловатому миру блатной романтики, — рассказал, что едет в Усть-Илимск. Марк не смог скрыть радости, ведь он прорывался почти туда же, а если точнее — в поселок Тубинский, лежащий юго-восточнее города, где заросшие северным лесом сопки нисходили к тучным заливам Илимского водохранилища.
В Тубинском Марка ждал закадычный товарищ, представитель отмирающей породы сельской интеллигенции — стихийно начитанный, сильно пьющий молодой краевед, ноздрями, потом, шкурой отзывающийся на тяготы родной земли, но и рвущийся — трагически, отчаянно — за мертвящие рамки ее патриархальных устоев. А еще Тубинский, или Туба, как окрестили поселок местные, — это растопленная до несуразных температур баня, запотевшие штофы кедровой самогонки, простор молчаливой тайги и время — порожнее, отведенное для неторопливого сбора разбредающихся мыслей. Чтобы попасть в Тубу, Марку требовалось шагнуть через две федеральные трассы и полузаброшенный лесовозный перевал — всего около тысячи верст дрянного асфальта и одичалых просек, щерящихся ранним снегом. С первой же попытки застопить водилу, едущего в те края, — невероятно! Марк сначала даже не поверил в такую пруху, но рассудил тут же, что дух трассы (олицетворявший некое высшее начало в подлунном мире) выказал ему свое благорасположение.
Разговор, как и всегда в дороге, обо всем и ни о чем. Паха поведал, что родом с Устилима, но большую часть года пропадает в Иркутске, на заработках, а сейчас мчит к семье, отмечать день рождения дочки, не видавшей отца с весны. Он доверительно сообщил, что уже пару лет гоняет без прав, и на встречный недоуменный вопрос ответил со смешком: «Да кому я, на хрен, нужен». Он вообще казался позитивным мужиком, без гнили, разве что немного неотесанным, но это прохладное замечание Марк списывал на собственную изнеженность, так свойственную коренным жителям больших губернских городов (Марк замечал ее за собой с раннего детства и относил к тем привитым средой чертам характера, побороть которые трудно, но все же необходимо, как и прочие свидетельства вырождения образованного сословия, к каковому он, разумеется, причислял и себя).
Марк не раз убеждался, что в дороге нужно быть в меру суеверным. Вот и теперь — только-только он поверил в возможность одним невеликим усилием преодолеть весь путь, точа лясы в компании необременительного собеседника (звонок жене: «Часам к десяти авось доберемся, кисуля!»), как стук мотора стал жестче, неприятней, прерывистей. «Волжанка», по словам Пахи, «ни разу не подводившая», несколько раз судорожно дернулась, взбрыкнула задом, заглохла. Паха, глухо матерясь, полез под капот, минут двадцать шаманил и наконец мрачно заключил, что продолжать путь с таким рассинхроном нельзя. К счастью, впереди просматривалось кафе, а еще дальше стелились дымы райцентра — города Зима, где, по одной из версий, родился Евтушенко, воспевший здешний край в выспренних, лишь отчасти правдивых строфах.
Кафе «Вдали от жен» держала семья азербайджанцев: едва теплый растворимый кофе цвета детских испражнений; павшие легионы мух на спиралях лент под потолком; условно-прозрачные клеенчатые скатерти, навек впитавшие кислую вонь осклизлой тряпки. Первым желанием Марка было незаметно улизнуть в туалет, а оттуда — на трассу, дабы продолжить путь в одиночку. С точки зрения голой автостопной науки это было разумнее всего, однако совесть шепнула, что бросать выручившего тебя человека не комильфо. Были и другие причины, вроде негласных дорожных заветов, гласящих, что сегодня кинешь ты, а завтра — тебя. Раз уж по пути, надо ехать вместе — это обременительно, зато честно. Где-то через час к кафе причалил главный азер. За символическую мзду «Волжанка» осталась ржаветь на заднем дворе, в ожидании хозяина, обещавшего эвакуировать аппарат на обратном пути в Иркутск. Заместо прощания азер бросил сквозь изгородь золотых коронок, что хорошо бы, мол, забрать до воскресенья, потому что намечается банкет и «бричку могут ненароком вскрыть по пьяни».
Было уже хорошо за полдень, когда незадачливые попутчики вернулись на трассу. И вновь обочина, гул ветра, поджидающие снега озимые и траурные венки берез, зябнущие под низким серым небом… Настроение Марка опустилось к минусовым отметкам, и немудрено — время безнадежно упущено, а в паре с тобой неподходящим образом одетый чурбан, максимально далекий от автостопных представлений о прекрасном. Да еще и наколки эти... Некоторое время шли вдоль обочины, выбирая позицию; с последним здесь было не очень: длинный шоссейный отбойник пресекал возможные (и, как можно догадаться, без того редкие) гуманистические поползновения проезжающих мимо водителей. Марк остановился в небольшом кармане. Ограждение уходило вдаль на добрых две версты, поэтому он решил стопить прямо тут, на единственном годном участке.
В этот момент из-за поворота вылетел МАЗ — на изгибе дороги прицеп большегруза опасно качнуло, колеса выбили из обочины клуб пыли. Марк машинально поднял руку, особо ни на что не надеясь, но МАЗ, вопреки ожиданиям, резко оттормозился и залетел в карман, едва не размазав автостопщиков по отбойнику. Марк подбежал к распахнутой дверце кабины. С высоты свесился водитель-якут — сухой, лет под пятьдесят, с вытянутым хищным лицом. «Залезай, братуха! Дорога дальняя!» Лязгнул прицеп, завыло сцепление. МАЗ единым протяжным рывком втянулся в полосу, словно уходя от незримой погони. Якут, поминутно смоля красным «Максимом», отрывисто рассказал, что везет в Братск гранитные плиты для лесопромышленного комбината, и что перегруз у него «тонн двадцать или двадцать пять, не мерил». Бочка с дымом, как Паха с ходу окрестил МАЗ, подлетала на каждой колдобине, бухая колесными осями. Грохот стоял неимоверный, но еще громче орал шансон. К торпеде приклеен ряд иконок, и тут же — несколько дам в неглиже; лобовое стекло оторочено бахромой; за спинками кресел — покрытый ковром лежак.
Прошли Зиму, Куйтун. На подъездах к Тулуну начал пробрасывать снежок, а когда въехали в город, валило уже вовсю. Марку казалось, что он вернулся в девяностые — впрочем, Тулун никогда их и не покидал. Направления вместо дорог, стаи суицидально бросающихся под колеса собак, заметенные снегом помойки и люди — безликие, нахохленные, лишенные речи, — им матюки давно заменили слова. Здесь воняло печной гарью и махновщиной. К выщербленной стене ютящейся у трассы руины была прибита агитка коммунистической партии: на разбитую колею взирает престарелый партийный вождь, кулак сжат в праведном гневе, снизу пущен слоган — белые одутловатые буквы на багряном фоне: «Ну и как вам живется при капитализме?» Поодаль, жизненным ответом, переливается огнями ларек «Курица гриль. Водка». А сверху — бетонной масти, тяжело набухшее октябрьское небо.
Выезжая из города, уперлись в ментов, обирающих дальнобоев на кольцевой развязке. Памятный контраст между грубостью фраз и нежными помпонами пара, тающими над мелко подрагивающей кабиной МАЗа. Якут отстегнул на лапу сколько полагается, после чего грузовик повернул в Братск — двести километров через тайгу и редкие пугливые деревни. Магнитола стенала хриплым баритоном Высоцкого: «Мой друг уехал в Магадан... не по этапу, не по этапу...» Снег пошел гуще, сильнее. Марк вслушивался в разбойничий пересвист ветра — тот резвился дверными щелями, меж неплотно притертых резинок. «Ведь там сплошные лагеря... а в них убийцы, а в них убийцы…» Стемнело. Якут сосредоточенно и в то же время отрешенно глядел в летящее навстречу белесое ничто. Зрачки его глаз остекленели, взяв на мушку одну, только ими зримую точку за пределами кабины. «Ответит он: — Не верь молве. Их там не больше, чем в Москве...»
Гонка сквозь туннель разгулявшейся вьюги. МАЗ натужно ревел, пер, разрывал ночь всполохами подслеповатых фар. Якут вытянул из пачки сигарету и ловко прикурил, не убирая рук с руля. Паха устало уговаривал телефон: «Да, сломался... еду... обязательно буду — где? — в тайге... ты главное не волнуйся, кисуля». Якут цокнул языком, приоткрыл форточку и отправил бычок в полет — на мгновение снежистый звездопад подмигнул красным, как далекий маяк, видимый с мачты превозмогающего шторм фрегата, — затем все вернулось к прежней маскарадной пляске. Что-то неистовое билось в стекла. Якут повернул голову и, глядя сквозь попутчиков, выговорил: «Страшно».
МАЗ рванул под горку, набирая скорость. Марка вдавило в сидение. И вдруг истошный, петушиный крик Пахи: «Руля давай!!!» Марк метнул взгляд к лобовому: сжимающий тиски прямяк, частокол елок с упрямыми спинами, грузные шапки мокрого снега, все контрастное и высвеченное, как негатив, а перед встающим на дыбы МАЗом — полоумный бурят (нелепые взмахи рук, выпученные бельма, раззявленный провал рта). Якут лег на руль грудью, дико взвыла резина, кузов грохнул так, что у Марка заложило уши. В голове мелькнуло: «Что-то скажет Оля, когда узнает?» Кабина накренилась, но почти сразу вернулась на траекторию, обойдя живое препятствие по обочине и чудом избегнув полета в кювет. Марк сглотнул. Паха утер взмокший лоб. Якут осклабился и выкрутил магнитолу до предела: «С него довольно, с него довольно! Его не будет бить конвой, он добровольно, он — добровольно...»
Ближе к Братску снег утих, по небу побежали бульбы облаков, подсвеченные громадой ЛПК. Пологий серпантин уходил вниз, в черноту тайги. За немой пустотой вздымались сигары труб, исторгающие тугие, навзничь, по ветру стелющиеся канаты дыма — химическая фантасмагория, глядя на которую, Марк надолго выпал из реальности, потеряв связь с душными внутренностями кабины. В чувство его привел окрик якута: «Приехали, братуха, мне здесь налево!» МАЗ срыгнул выхлоп, лязгнул прицепом и бросил многосуставчатое тело в мрак поворота. Попутчики остались одни. После короткого совещания было решено двигать на городской вокзал, чтобы переночевать в тепле и относительной безопасности.
Быстро холодало, пальцы коченели, в легкие врывался колючий воздух. И неслись, неслись, неслись по зеленоватому небу очистки облаков, отзываясь на крепнущий ветер, — он пробудился ото сна и теперь ворчал, точно дряхлый божок, отбывающий бессрочную ссылку в этом стылом краю. Он не желал отдавать свое и утверждал право первой ночи. Право судить и карать. Несравненное право нести смерть на иссохших крылах.
- 3 -
Марк проснулся среди множества блуждающих туда-сюда людей. Паха исчез — должно быть, рассудил, что поодиночке им будет проще, или же сумел отыскать темный железнодорожный перегон, подгадал расписание и забрался в идущий на север товарный состав. Раньше в этих краях часто ездили с «попутными» поездами, затем, по мере учреждения вялой стабильности, рискованный метод вышел из оборота, однако аборигены, вроде Пахи, в случае надобности не брезговали привычками и ухватами, приобретенными в лихие годы. Как бы то ни было, отныне Марк был предоставлен сам себе. Лихорадочная спешка ночного перегона отпустила, торопиться стало некуда, — товарищ в Тубе ждал гостей не раньше вечера следующего дня.
Наскоро перекусив в вокзальном буфете, Марк отправился к Братской ГЭС — одной из попутных целей его путешествия. Добраться туда было не так-то просто: предстояло сделать приличный крюк, на время покинув усть-илимскую трассу. Меняя транспорт, Марк оставил за спиной поселки Братска — разбросанные по тайге, отстающие один от другого на десятки верст и мало чем связанные, кроме, разве что, общей судьбы и равнодушия северных дорог. Чуть за полдень махнул через ГЭС по автомобильному большаку, еще с час мерил шагами трескучие перелески и наконец оказался в искомом месте: склон в сосновых островах, у обрыва — ровная площадка, где к ГЭС можно подобраться почти вплотную, сохраняя обзор и на Ангару, лежащую в парах нижнего бьефа, и на само безразмерное туловище советского чуда света.
Крылья пепельного пара поднимались над незамерзающей в этом месте рекой, не в силах скрыть богатырское основание плотины. Марк видел бивни водосбросов, рогатые шлемы кранов, провалы морозной синевы над машинным залом. Нельзя было и вообразить, что в месте, отведенном для вековечной спячки гиганта, некогда царствовала река — сильная, глубокая, своевольная... и все же ничтожная в сравнении с ним. Братская ГЭС: полтора километра в длину, больше сотни метров в высоту, миллионы тонн бетона, единая, застилающая горизонт твердь. Не имеющий равных монумент имперского величия — глядя на него, теряешь дыхание, он вырастает из Падунских порогов живым свидетельством необоримых сил, сокрытых в толщах земли. Братскую ГЭС славил Евтушенко, но теперь, увидав монстра воочию, Марк подумал, что здесь больше сгодились бы таланты Лени Рифеншталь. Воистину, триумф воли, что-то циклопическое, сродни египетским пирамидам или затерянным в джунглях городам инков.
Братскую ГЭС возвели люди, но не она служила им, а они — ей, увековечив традицию, где народные массы в слитном, иногда искреннем, но чаще подневольном порыве приносят в жертву робкого человека, заливают в раствор его чаянья, с тем чтобы, затвердев, чаянья эти стали фундаментом безмолвного атланта, под расправленными ступнями которого гнется мир.
Тогда, ища дорогу к себе в образе молодого скитальца, Марк смотрел на ГЭС с первым неосознанным изумлением, боясь смежить веки. Он не думал о многом, захваченный эпической панорамой. Много позже, будучи тридцатилетним побитым не раз и не два знатоком жизни (усталые глаза и седые росчерки висков), он вернется к запечатленным чувствам — остро пережитым им тогда, но не имевшим еще формы и формулы. Он отыщет слова и скажет себе, что построить нечто столь невообразимое посреди океана тайги могла цивилизация, заглянувшая в те области пространства, где царят вакуум и первородная тьма; цивилизация не сверх-, но постчеловеческая, самим фактом существования упразднившая отживший термин «человек».
Он скажет себе, что такая цивилизация порождает специфичный образ государственной мысли с характерным стремлением к газообразному расширению. Цивилизация легионов, прокладывающих дороги, но лишь затем, чтобы по ним маршировали победоносные когорты с орлом, реющим над облаченным в волчью шкуру центурионом. Цивилизация ракетчиков, изобретателей, прогрессоров — словом, людей, отвергающих праздность во имя невозможного. Социум, находящий смысл не внутри, но вовне — где лучшие таланты служат, воюют и умирают за пределами родины или на ее дальних рубежах в ходе очередного — героического, превозмогающего, утопического — завоевания. Грибоедов, этот блестящий ум своего времени, находит смерть в Персии, в ходе мелкого религиозного мятежа; декабристы — совесть сословия — искупают грехи отечества в Сибири и Закавказье; Суворов ведет полки через альпийские перевалы, а Королев строит ракеты, доставляющие на орбиту смертоносное оружие, отмеченное алой звездой легиона, но и человека — первое дышащее существо в лишенной атмосферы вселенной, которая, как говорят, тоже бесконечно расширяется, пытаясь нагнать собственную тень.
Он скажет себе, что только на рубеже у этой цивилизации есть оправдание, только на лезвии бритвы ее слава на миг заслоняет ее же убожество. Без рубежа, войны, экспансии — нет ничего, лишь гадкая нищета, воровство, пьянь, тупоумие, чеховский овраг и его же палата номер шесть. Осознавая это, — неизменно вперед, к новым вершинам, повергая ниц земли, народы, сам космос. А вернуться назад, окинуть взглядом уже пройденное, — страшно. Там поджидает дремотное безумие психбольницы и трясина бюрократического ада казенной канцелярии. И ежели взглянешь, превозмогая инстинкт, — ужаснешься виду голых пустырей, осваивать которые не будет никто и никогда, ведь захватывали их единственно ради самого процесса. Жуткая клаустрофобия рожденных на этих пустырях одолевается роковым стремлением покинуть их, присоединив еще несколько подобных. Ну же, бегом, ни о чем не думая! Остановись — все исчезнет. Падет орел, рассыплется брусчатка дороги, оголится земля, покрытая желтым паром листвы, откроются громады площадей, где казнили людей до рассвета.
И разве не правы строители Братской ГЭС, выбравшие именно это место посреди таежного ничего? Здесь сошлись постчеловеческие мотивы тысячелетней цивилизации завоевателей и Сибирь — безраздельная владычица дочеловеческих тысячемильных пространств. Подобное к подобному.
Обо всем этом Марк подумает годы спустя, погруженный в мрак одиноких январских ночей, но тогда, перед громадой ГЭС, в голове у него крутились совсем другие мысли. Он понял вдруг про себя что-то короткое, но самое главное — то, ради чего и затевалась его авантюрная поездка. Душа в нем заговорила, заплакала, очнувшись от обманчиво-уютного дыхания Морфея, точно ребенок, хлопающий заспанными глазами в виду окрика сурового родителя. Он был рожден, чтобы бежать, как в той песне группы «Чиж», — вот правда, которую следовало понять про себя с самого начала. И он побежал — Форрест Гамп, взламывающий ненавистные скобы ножных колодок…
А потом как-то сразу наступил поздний вечер, и Марк оказался на кольцевой развязке в истоке усть-илимского тракта. Промозглая ветреная полутьма тревожно потрескивала, обозначая близкую линию ЛЭП. Ровный плац, обжитое приграничье, последние фонари перед затяжным виражом дороги — идеальное место для ночного автостопа. Нужно было остановиться, взять паузу, однако Марк был над собой не властен. Ноги несли его вперед. Одежда взмокла, по желобку позвоночника заструился горячий ручей. Топ-топ — алмазные когти ботинок хрустят по грунту обочины. Топ-топ — бьется строптивое сердце.
Топ-топ-топ — бурое небо насупилось, повалил медленный снег. Влажные комья упадали густо, с хлюпающим шелестом. Вскоре все стало белым, однородным. На бортах трассы начали собираться первые сугробы. С севера-востока потянуло зимой — Марк шел именно туда. Стоянка для фур, блеклая лампа над скрипучей дверью, звон невольничьей цепи, утробный псовый лай, гомон загородного кабака. Мимо, все мимо. Редкие вспышки фар возникали и безучастно гасли —водители упорно не замечали топающего по обочине парня в надвинутой на глаза шапке. Марк их не корил: места здесь дикие, не ровен час, нарвешься на беглого или уголовника. Он не поднимал руку и никак себя не обозначал, ему хотелось просто идти, без остановки, до рассвета, и дальше, дальше.
Топ-топ — под ногами покрытое наледью полотно. Выбоины полны густеющей снеговой жижи, края тронуты ледком. Елки подступили к дороге, свесили седые головы — еще чуть-чуть и встретятся, сомкнутся, и больше никаких разлук, только вечный покой под баснословным саваном. Отдалился и стих треск проводов. Ветер что-то пропел засыпающим лесным обитателям. Он тоже устал, этот глашатай забытых царств, свидетель их могущества и упадка. Он не злился, больше нет.
Топ — небо чернеет, далекое и непроницаемое. Тучи разошлись, но звезд не видно. Марк замедлил шаг, чувствуя близящееся нечто. Это не ветер, нет… Что-то большое, пышущее — груженый лесовоз на обратном пути с нулевого километра Богучанского зимника. Взбирается на тягун, хрипя, из последних сил. Марк слушал, зная, что увидит еще не скоро. Сперва лохмотья облаков вспыхнули далеким пожаром — лесовоз лупил фарами прямо в небо. Затем лучи-указки опустились, высветив неровный строй елок. Рев нарастал, и все ближе пронзительный белый свет. Снег пьяно метнулся, стараясь ускользнуть от рентгеновского взора. Лесовоз выполз на взгорье, начал спуск к городу. Фары били фронтально, слепя Марка, он не видел ничего, кроме огромных немигающих этих глаз. В сознании возник прежний отстраненный вопрос: «Что-то скажет Оля?» Нет, опять ничего. Лесовоз прогрохотал мимо и растворился в ночи — та сомкнулась, как занавес после спектакля.
Топ... подошвы ботинок вросли в асфальт. Марк прикрыл глаза, отдыхая. Он видел сон, будто нашел в семейном архиве старое фото: бабушка вся в белом сидит рядом со Сталиным — тоже в белом. Весна, перед лицами медленно плывут парашюты одуванчиков. Косые медовые лучи на френче грузина. Бабушке лет сорок. Иосифу Виссарионовичу под полтинник. Конечно, такого не могло быть, но Марк видел сцену воочию. Снилось еще, что он едет куда-то: вокруг зеленое неосязаемое пространство. Акварельный этюд. Середина мая, мокрый снег, цветущие ветки яблонь гнутся под снежной шалью. Он едет быстро, хотя дороги не видно. Еще снились женщины — или только одна? — черты истаивали. Водные брызги, улыбка, взмах платка, щемящее чувство, и знал только, что завтра лето...
Марк несколько раз моргнул, встряхнулся всем телом, как застоявшийся жеребец, прогоняя остатки незваных грез. Ну вот они и прошли, его несколько минут наедине с безотчетным. Впереди, как и прежде, лежала бриллиантовая дорога, и — надо глядеть правде в глаза — будет на ней еще всякое: с ним и с другими. Хоть и бежишь вперед, но пока всего-навсего Братск, и ох как далеко еще до Итаки. Ох, как далеко.
Картина четвертая
«Харибда»
Мальчик бежит по дороге,
Сшибая столбы.
Непослушные ноги ему говорят:
— Мы тебя приведем, но ни шагу назад!
Земфира
- 1 -
Говорят, детство — это территория бесправия, но наш мальчик, услышав подобное, мог бы только присвистнуть — какие скучные загогулины, до зевоты. Куда интересней словечки: чердак, слежка, план. Через паучью щель шифера рвался острый, как язык змеи, уличный свет. Надломленную полосу можно отодвинуть, всунув пальцы между деревяшкой и расшатанным гвоздем — туда-сюда, раз-два. Жадный зрачок лип к проему: ага, вроде все тихо. Друзья были тут же, под боком, они шушукались и неловко переминались с ноги на ногу (заденешь впотьмах осколки битого стекла или, того хуже, снесешь неотесанным плечом наваленные по углам коробки, и все — палево).
Сами они прозывались Кодлой — звучит круто, с бандитским понтом, что-то из подслушанного в разговорах старшаков. Так вот, Кодла на мелочи не разменивалась — только рискованные оперейшн, сулящие барыш. Например, спереть из шинки на кузьмихинском пятаке старые колпаки от иномарок (их часто выбрасывали за контейнер, вместе с обрезками резины и прочим автошлаком; они вроде как были ничейными, но хозяин шинки — злющий армянин с вислыми усами и шашлычными полосами ногтей — мочил каждого, кто совал нос в его халупу). Раньше колпаки использовали в качестве щитов для дуэлей, однако теперь эта шалость вышла из моды, а жаль: мальчику нравилось махаться на мечах (на ловко связанных между собой деревянных палках). Старшаки, завидев такое, тут же поднимали Кодлу на смех, обзывали голубятиной и эльфами, — короче, в тот год ролевая тема как-то разом потеряла в уважении, пришлось менять профиль. Или вот добротная укрывная пленка, без нее в Штабе никуда: намотаешь на ржавые обрезки труб, и получится офигенная крыша. Пленка водилась в садоводстве за гаражным кооперативом — серьезное дельце. С заброшенных участков все растащили еще в дремучие времена, поэтому лазать приходилось прямо на грядки к местным пенсам, втихаря отдирая куски с теплиц и парников. Это можно было сделать только в темноте, а осенью предки загоняли Кодлу по домам отвратительно рано, сразу после второй школьной смены, так что времени на оперейшн оставалось впритык. Орудовали в шкодливых сумерках, под носом у сонных бабуль и дедков. Иногда прилетало, случилось даже, на них спустили здоровенного пса-оборотня, прям как в том фильме. Жуть!
Штаб для Кодлы был местом священным, его расположение держалось в строгом секрете не только от родаков, но и от пацанов из конкурирующих банд. Первая именовалась немудрено — Братва, там было полно всякого быдла из Нахаловки — самостройной деревни, оккупировавшей болотистую низину за железнодорожным тупиком. Другая звалась на модный манер — Бригада, в ней тусили наслушавшиеся баек про Космоса и Сашу Белого придурки из двадцать четвертой школы (куда, как известно, брали только умственно отсталых). Обе банды были не чета Кодле, но опасаться их все же стоило. Слухи про Штаб уже гуляли по району, а значит, возникала угроза налета. Мальчик особенно стерегся деревенских из Братвы — те и разговаривать не станут, сразу всех отметелят, а Штаб спалят к едрене фене.
На тайной сходке было решено вооружаться, и деревянные мечи для этого уже не годились — нахаловских быков дешевым понтом не возьмешь. Хорошим оружием считались рогатки и самострелы, но в Кодле кемперов отродясь не водилось. Палки с гвоздями тоже отпадали — варварскими хреновинами махаться считалось западло, да и от родаков за такое могло крепко прилететь. Тут-то мальчика и осенило — ну конечно! — им нужна проволока, медная или алюминиевая, не суть: она годилась и на обустройство Штаба, и на военные нужды. Алюминиевая вообще считалась бесценной — ее плавили на костре в яме за хоккейным кортом, а затем отливали в загодя подготовленные формочки. Круче всего получились метательные диски с клеймом банды (горячий блин придавливали вывернутой наружу пробкой из-под пива — ее аккуратно прибивали гвоздем к деревянному бруску и держали на вытянутой руке, подальше от огня). Такие диски с зубчатым узором очень ценились на районе, но Кодла ими не банчила из принципа. Диски даже не разрешалось брать домой — весь небольшой запас на правах общака держали в Штабе, юзая беспалевную выемку под полом.
Конечно, диски можно пустить в ход как оружие последней надежды, но друзья знали, что затяжную осаду с такими хилым запасом выдержать нереально. Война тем временем представлялась делом почти решенным, и сходка огласила суровый, единственно годный вердикт: во что бы то ни стало надыбать драгоценный артефакт. И он был найден! — на заднем дворе школы, в кусачей темноте подсобки, среди метел, скребков, ведер и прочего хлама. Тугой моток, от которого веяло холодной статью рыцарского нагрудника, заприметил один из верных членов Кодлы, когда на уроке труда его послали взять из подсобки заготовки для лопат. Услышав про находку, друзья повскакивали с мест, едва не сорвав урок, и угомонились лишь после того, как учитель беззлобно, но с глубоким знанием предмета пообещал огреть черенком каждого, «чтоб дурь выбить».
Не без напряга и потных подмышечных споров план хитрой оперейшн разработали в тот же день. Мальчик остался доволен собой, ведь это был его план! Доступ к подсобке имелся только в светлое время — на ночь дверь запечатывали мощным гномьим замком, не вскроешь. К тому же после заката Кодла в любом случае изнывала под домашним арестом. Днем же в школе всегда было полно учителей и вражьих дозорных, что делало кражу слишком рискованной. Оставался только один вариант: идти на дельце утром в субботу, когда на территории почти никого, подсобка открыта для уборщиц и из нее можно стырить все, что не привинчено к полу. План был хорош и все же не исключал встречи с главным врагом — сторожем Маркелом.
Двухметровый тролль, круглый год расхаживающий в страшнющем буром полушубке, — Маркел наводил ужас на всю школу (девочки с визгом разбегались при одном его появлении, а мальчики, пунцовея, вжимались в стены, до последнего изображали равнодушие, а затем, не выдержав, неслись коридорами, и пятки всклокоченным вихрем разметывали по стенам их фальцетные вопли). Из сведений, собранных в штабном досье Кодлы: Маркел горбат, никогда не моется и лишь выдает себя за обычного человека, а на деле является то ли жертвой военных экспериментов, то ли беглым душителем младенцев из Румынии — первая версия была слишком скучной, а вторая чересчур фантазерской, банде не по статусу. В последнее время друзья склонялись к достоверной наводке про младенца-дауна, найденного в подвале при возведении здания и прикованного к школе некой страшной клятвой. Главное же, было доподлинно известно, что Маркелу не меньше ста десяти лет.
Подсобка мозолила глаза у забора, а в каких-то тридцати шагах, сразу за школой, дожидалось сноса заброшенное двухэтажное здание с тусклой вывеской «Хозмаг» на торце — именно там, в джеймсбондовской полутьме чердака, среди битого стекла и пыльных коробок, Кодла устроила свой наблюдательный пункт, готовясь к молниеносной вылазке за проволочным мотком. Спину мальчика щекотал гомон друзей, сам же он зорко высматривал Маркела, наверняка ошивавшегося где-то поблизости. Мальчик видел зазывающе приотворенную створку и висящий на скобе ворот гномьего замка — вроде никого. Пора действовать.
В боевую фазу оперейшн пошли вдвоем, оставив друзей на шухере. Хватая ртами разряженный сентябрьский воздух, махнули через забор, — мальчик и закадычный член Кодлы, тот самый, обнаруживший проволоку на уроке труда. Десять крадущихся скачков от забора до задней стенки подсобки, пять нервных вдохов и один боязливый взгляд из-за угла: унылые подтеки на кирпичной кладке спортзала, неряшливые кучи сметенной тополиной одежи, оклеенная скотчем дырка («это не мы») в окне кабинета физики, перекошенная штанга в центре волейбольной площадки… Чисто!
Мальчик задержал дыхание и сиганул в проем. Перед ним возник знакомый хлам: черенки, ведра, сломанная парта, старая доска с меловыми отметинами полустертых химических формул и... огромный, в три обхвата, моток тускло поблескивающей медной проволоки. Мальчик кинулся к заветной находке и сразу понял, что в одиночку ему эту дуру не сдвинуть. Подал сигнал условленным тройным свистом — тишина! Свистнул еще раз, громче — друг не отзывался!! Мальчик шмыгнул к двери и та неожиданно распахнулась во всю ширь. Над ним, пожирая тусклый осенний день, высилась уродливая черная громада с помелом в когтистых, непомерной длины, пальцах, выступающих из сношенных до бахромы рукавов полушубка, — Маркел!!!
Метла взметнулась для убийственного удара, но мальчик ужом скользнул меж разведенных ног монстра и оказался у того за спиной. Крутанувшись на месте, он увидел, что камнеподобное туловище медленно разворачивается, вращаясь на ржавых, недовольно скрежещущих шарнирах. Мальчик пружинисто перелетел на другую сторону забора, дико вопя: «Атас!» Из здания «Хозмага» уже сыпались бойцы Кодлы, а дальше по аллее был виден красный, стекающий по ветру капюшон непромокаемой куртки закадычного члена — очевидно, давшего деру раньше всех. Банда неслась прочь от школы: мельтешащие подошвы, выпученные глаза, жгуты потных волос — все дальше и дальше, подобно утлому боту, убегающему от гибельной океанской пучины.
В самом конце аллеи, перед тем, как нырнуть в спасительный лабиринт дворов, мальчик обернулся: у горизонта, тяжело грохая сапогами и потрясая помелом над ощерившейся пастью, раскачивалась жуткая фигура Маркела. Сторож сильно отстал, но мальчик знал наверняка — стоит остановиться, и когтистые лапы тут же сгребут за шкирятник, уволокут назад, в бездну подсобки, на веки вечные.
- 2 -
Мальчик торопился домой. Вот ларек «Дело-Табак» и полнехонькая мусорная урна — случалось, Кодла совершала набеги в поисках тары: за отмытую, без этикеток, «темную» Жигулевского давали пятьдесят копеек, за прозрачную «белую» Балтики — семьдесят, а за длинную «зеленую» из-под винища — аж девяносто! Здесь же был магазин «Ветеран» с раскосой надписью «Цой жив!» поверх стеклянного фасада. Кто-то заменил «в» на «д» и получилось тупо. А вот родной двор: галерея опадающих берез, качели с запаянными петлями (чтоб пацаны не могли крутить «солнышко»), странная лестница, уходящая в небо аж до третьего этажа (лазили на спор, кто не струсит), и дальше, на сколько хватало глаз, — грязно-белая ляжка панельной девятины, выстроенной, казалось, только за тем, чтобы ее тут же обозвали китайской стенкой-застенкой.
Однако попасть домой мальчику было не суждено, у подъезда его уже ждала мама — буркнула что-то невнятное, схватила за руку и поволокла прочь, в сторону остановки. По семенящим движениям и дыханию, срывающемуся в какой-то птичий посвист, он понял, что мама опять поссорилась с папой и у нее была «истерика», как это ее состояние называла бабушка, — к ней-то они и направлялись. Мама впихнула мальчика в желудок битком набитого траллика, крепко держала за плечо всю недолгую дорогу и до самого бабулиного дома (четырехэтажной хрущевки свинячьего цвета) не произнесла ни слова, однако у двери в квартиру вдруг остановилась, присела на корточки — лицо против лица — и сказала: «Сегодня останемся здесь, душа моя. Бабушка блинчиков напекла, с вареной сгущенкой, как ты любишь. Классно ведь, да?»
Хлопнула дверь, лестничный пролет отозвался зычной отрыжкой, мигнула лампочка промеж спичечных огарков на потолке. Бабушка дежурно обсюсюкала внука и тут же обломила, заявив, что блины будут только к вечеру, а пока, дескать, ей нужно сходить в магазин за маслом и яйцами. Мама ушла вместе с ней. Мальчик остался в пустой квартире. Он решил, что все плохое в жизни происходит разом, как во время экзамена по алгебре. Он знал, что папа уже полгода спит на диване в зале, а мама день через день плачет одна на кухне. Родаки ничего ему не говорили, типа все у них в порядке, но он видел пыльные синяки под глазами матери и странно подергивающуюся сизую жилу на щетинистой шее отца. Он не обсуждал это с друзьями по банде, но слышал, что у многих одноклассников предки живут отдельно и вроде как вообще не базарят друг с другом. Это звалось жужжащим словом «развод» — прокручивая его в голове, мальчик представлял залитый паскудным белым светом стоматологический кабинет на третьем этаже школы, где очкастая толстая докторша сверлит десны мерзкой вибрирующей штукой (после выхода оттуда изо рта шел горький металлический запах — именно так вонял «развод»).
Что будет, если он случится у предков? Наверно, они окончательно разъедутся по разным хатам, а его отдадут бабушке — на время... или навсегда?! И больше никаких выездов на рыбалку с отцом и теплых маминых поглаживаний, когда он, случалось, забирался к ней в постель, разбуженный ночным кошмаром (мальчик сознавался в этих видениях только ей и себе: иногда ему снились черти, смеющиеся беззвучным смехом в проеме выключенного телевизора, или непонятные, бестелые фигуры, расползающиеся по потолочной известке, — как убежать от них, если мамы не будет рядом?) Он почти взрослый, но только не в тесноте спальни с медленно сходящимися стенами, только не наедине с собой... И стопудово на него будут странно пялить в школе, уж первое время точно; возможно, даже вызовут к психичке, душной тетке с козлиным пухом над верхней губой — она будет задавать дурацкие вопросы и рисовать черточки в блокноте, типа оценивая, не псих ли он. И еще совсем не факт, что их с Кодлой сегодняшняя выходка останется без последствий, так-то Маркел мог стукануть класснухе или, того хуже, сразу завучу. Капец засада.
Мальчик выглянул в окно: смеркалось, по небу плыли тяжелые матрасы облаков — одинаковые, скучные, с прожилками дождевых полос папиросного цвета. Ему представилась взрослая жизнь — должно быть, она будет ровно такая же, то есть совсем никакущая, сырая и вонючая, как скорый октябрь. Что ему там делать, в этой жизни? Отращивать бороду, как у папы? Каждый день ходить на работу, как мама? Учиться стряпать, как бабушка? Там не будет Штаба, Кодлы, махачей на пустыре… Оперейшн под названием «взрослость» навевала тоску.
Мальчик оттолкнулся от подоконника и побрел на кухню, искать чем можно подкрепиться, — с этим у бабули всегда было в поряде. Он набил рот шоколадными конфетами и вареной колбасой, а сверху залился компотом из трехлитровой банки — кул! Настроение потихоньку поползло вверх, но в квартире было совершенно нечем заняться, из развлекух — только старенький телевизор, показывающий некрасивых поющих мужиков с клоунскими мордами (у-уу, гоблины). Мальчик плюхнулся в кресло, пахнущее бабулиным пледом, и начал щелкать каналами. Всего их было три: по первому показывали тех самых мордастых певцов в париках, по второму плешивый дядька кривлялся и шутил про тещу (отстой), а последний назывался «Культура», что в понимании мальчика равнялось отстою в квадрате. Видака у бабушки не было, а почти все свободное пространство занимали огромные книжные стеллажи — мальчик давно перетаскал с них все клевое: Стивенсона, Майн Рида, Джека Лондона; прочее отводилось под пухлые собрания сочинений русских классиков и гюго с вальтерскотами (фу, занудство).
На втором канале плешивого дядьку сменил дородный увалень, смахивающий на главаря Братвы — те же крысиные зенки и потный лоснящийся лоб в мелких водянистых складках. Пацан из Нахаловки прыгал по сцене и что-то блеял, типа как говорящий тополь, ни фига не смешно. И кто, спрашивается, пустил придурка в эфир? Мальчик представил, как Кодла врывается в зал, прямо под камеры, и устраивает замес отморозкам из Братвы — давно нарываются! Эх, еще бы проволоку надыбать, но заветный клубок теперь вне досягаемости. Подстава. А на экране возник новый герой, старик с всклокоченной бородой, в продолговатом колпаке поверх кустистых бровей. В руках у него был похожий на окаменелую ветвь костяной посох со светящимся навершием. Волшебник стоял посреди узкого каменного моста, нависавшего над бездной. На другой стороне, в окружении огнистых всполохов и росчерков орочьих стрел, к схватке готовилось чудовище: черная туча с косматой мантией за плечами. Маг что-то выкрикнул и резко опустил посох. Вспышка, как взрыв маленького солнца. Мост распался на части. Чудовище сорвалось вниз — злобно ревя, оно падало на дно мирового колодца и падало не одно — волшебник падал вместе с ним, и то был вовсе не волшебник, а обычный одиннадцатилетний мальчик.
Падать было темно и почти не страшно. Он не видел своего врага, но чувствовал, — встречный поток воздуха обдавал щеки сухим жаром; время от времени мимо проносились багряные искры, вырывающиеся из пламенной утробы зверя. В какой-то момент падение прекратилось, под ногами была твердь, впереди — узкий коридор с серебряной аркой. Стены и пол напоминали тусклый шелк, будто кто-то бросил на камни покрывало беззвездной ночи, забывшей взор солнца и луны. Мальчик шел к свету, на ощупь, ступая осторожно, боясь растоптать собственные грезы. За аркой была комната, и он тотчас ее узнал: деревянная кровать, зеленые полосатые обои, шум ветра в оконных рамах. Он ощутил ленивую тяжесть в членах и растянулся на матрасе, радуясь, что папа уже заклеил щели на зиму. В комнате было тепло, даже жарко. Мальчик прикрыл глаза, решив немного вздремнуть до возвращения предков с работы.
Ему представились ослепительная синева небес, нагая пустошь и бугристый утес, чья вершина терялась в облаках, как, впрочем, и основание. На одном из склонов, прямо над собой, он увидел маму — та медленно карабкалась вверх (пальцы с аккуратно подпиленными ногтями почти не находили пригодных выемок, тело с трудом держалось на лихих кручах). Мальчик попытался догнать мать, но та продолжала восхождение, не оглядываясь. Склон был сыпучим, из-под ног вылетали острые камешки, ворот футболки стягивал горло петлей висельника. Они были высоко в горах, однако воздух с каждой минутой делался жарче и суше. Мальчик видел, как мама замерла у края расселины, — чтобы продолжить подъем, ей нужно было взобраться на уступ и совершить прыжок на ту сторону. Прыжок веры. Мама уперлась в стену и прыгнула, но толчок оказался недостаточно сильным — тело зависло над пропастью и ухнуло в облака. Мальчик выпростался над расселиной, одной рукой цепляясь за выступ, а другой хватая родную ладонь. Он удерживал мамину тяжесть кончиками пальцев, едва-едва. В этот момент мама наконец взглянула на сына: ее серые, как у волчицы, глаза смотрели грустно и пронзительно, кудрявые каштановые волосы плыли по ветру, антик подбородка отбрасывал продолговатую тень на колыхающиеся туманные пласты внизу. Мама сказала: «Душа моя, позволь раствориться в тебе, взгляни моими глазами», и разжала пальцы. Из груди мальчика вырвался беззвучный вопль, а в животе рванулась и лопнула незримая пуповина.
Он проснулся, спеленатый чем-то клейким, будто в паучьем коконе. Пространство дрожало и плавилось, залитое мутным алым свечением. Мальчик сорвал путы, вскочил с кровати, попытался открыть окно, однако рамы не поддавались, — вглядевшись, он понял, что снаружи вовсе не ночь, но глухо подогнанные кирпичи дебелой тюремной кладки. Теперь он вспомнил: грозное противостояние, удар посоха, крошащиеся своды моста, падение сквозь земную толщу. И вот он здесь, в будто бы знакомой комнате — должно быть, чудовище наслало морок, решило взять обманом. Зло коварно! Дверь сотряс град ударов, петли заскрежетали. Кто-то хотел войти, кто-то требовал, чтобы его пустили. Мальчик тронул прохладную гладь посоха — кристалл в переплетении костяных ветвей яростно вспыхнул, предвкушая. Дверь содрогнулась и рухнула, снесенная одним могучим нечеловеческим ударом. На пороге, вздымая меч черного пламени, стояло чудовище — оно распахнуло полы косматой мантии, и мальчик увидел, что вместо доспеха враг облачился в огромный полушубок бурого цвета. Судорога невыносимого узнавания прошила сердце: на него, кривя рот в плотоядной усмешке, надвигался сторож Маркел...
Мальчик моргнул, силясь понять, где он. На тумбе шумел телевизор, потолок сек глаза шестипалым светом люстры, воздух близ лица трясся и орал. «Мало мне что ли мучений с отцом твоим?! Теперь вот из сына вор растет!» Пауза, вдох, снова крик: «Встал, сейчас будешь по заднице получать! Зря тебя в детстве мало пороли!» Пауза, сопение, звук льющейся в мойку воды, опять крик: «Встал, я кому сказала! Он еще и спать завалился, ну прям барин! Тебя на учет в милицию поставят, слышишь?! И дружков твоих! Вырастила сына-уголовника!»
Неизбежность, удар, ожог, боль.
Мальчик зажмурился, он не хотел открывать глаза, не хотел видеть лицо мамы, ведь это значило потерять ее навсегда, стать взрослым, остаться одному. Он крепко-крепко сжал веки, в последний раз, и что-то на внутренней стороне отозвалось ему — что-то или кто-то. Этот кто-то сказал: «Взгляни на свои творения. Все в сиянии», — и тогда мальчик открыл глаза, чтобы больше никогда не закрывать.
Картина пятая
«Итака»
«Like tears in rain»
Blade Runner
Перефразируя классика, у нас тут конец бездарной эпохи. Ты не согласен, знаю, но какие у тебя доказательства? Вот ты говоришь, что в жизни есть смысл: достаточно просто его разглядеть, предугадать, на худой конец — выдумать, но можно ли принять за данность, что никакого смысла нет? Мы рождаемся и умираем просто так, по велению биологического цикла, или, если угодно, в порядке своеобразного анекдота за авторством мирового Фатума — о, в него-то я верю, насмотрелся. Жизнь полна закономерностей, скрытых мотивов, спиралей, формул, однако не есть ли все они суть банальное отражение природного начала? Кто сказал, что человек отличается от дерева? Почки на ветках сменяет листва, зиму кроет лето, дождь перерастает в снег, — и разве не таков человек? У него тоже свои сезоны, он точно так же зависит от раз и навсегда заведенного механизма в циферблате огромных часов, отсчитывающих срок сущего. Закономерности бесспорны, но что они подтверждают, помимо того, что все мы — рабы циферблата?
Вот ты говоришь, что добро отличается от зла, а эта мерзлая земля смеется тебе в лицо. Ее обитатели так слабо интересуются опытом трагедий в своем далеком и недавнем прошлом, ведь бытие здесь, под этим напоминающим бетонную плиту небом, само по себе почти всегда трагедия и катастрофа. Спасайся, кто может. Тащи, что плохо лежит. Когда чело’веки день ото дня заняты выживанием, им не до абстрактных умствований о материях, выходящих за рамки емкого слова из трех букв. Романтик, жалкий утопист, — твои речения о добре сродни бабкиным наговорам, промямленным слепым ртом в потемках холопской горницы. Ты уговариваешь себя точно первобытный шаман, оттискивающий скудные мечты своего племени на закопченных стенах пещеры. Ты научился различать добро и зло или тебе хочется в это верить? — так проще, безопасней, спокойней. Говоришь о добре, подразумевая себя, тешишь эго, — приятно, в самом деле, парить над глупышами-соплеменниками. Ты говоришь о добре, но это слова лицемера, мнимого мудреца, труса! Ты боишься взглянуть правде в глаза, ведь правда жестока: нет ни черного, ни белого, только серая грязь, глина, получаемая из смешения одного и другого. Чело’век — глина и есть, тебе ли не знать. Долгие годы ты бродил по империи страха, скобля неисчислимые километры пустынных трасс, а в итоге нашел лишь еще один заметенный снегом большак, где унылая опушка обездоленного после давнего пожара леса щетинится иглами берез, черными от застарелой копоти, — точь-в-точь стоячие мертвяки из допотопного ужастика.
Ты говоришь, что Бог есть, но все в твоих скитаниях указывает на обратное. Существуют лишь боги — злые, коварные, хитрые, они пируют на вечном синем небе, играя судьбами смертных, словно разноцветными пробками из-под пива. У них разные имена: Посейдон, Гермес, Тенгри — можно выучить их все, а можно забыть, суть не изменится. Мир принадлежит им, они делят, рвут на части, иногда даже воюют за него, а люди — лишь копии богов: по образу и подобию, по подобию и образу. Беспощадный фатализм древних — ты отвергаешь его из страха. Тебе претит мысль, что жизнь суть забава в склизких от подношений жреческих перстах. Ты говоришь о добре, смысле, Боге — все это отговорки, ширма для слабой женской натуры, не готовой принять закон кровной мести, войны, братства, то есть всего того, что от века составляло предназначение мужчины, легионера, погонщика в авангарде не знающего жалости тумена Улуса Джучи.
Но еще ты говоришь, что человек живет надеждой, а иначе зачем каждое утро открывать глаза? — и, знаешь, в этом месте я не могу спорить. Отбросив порожнюю риторику, с болью заключаю, что победить империю страха нельзя, как невозможно служить ей (если, конечно, ты не удумал пополнить ряды ее молчаливой армии). Эта внутренняя империя, она окружает дитятю с раннего детства подобно пеленкам, а позже — доспехам. Против нее бессмысленно и незачем воевать — то колосс, пораженный трупными язвами; он погребет самое себя, рухнет под тяжестью вековых испражнений. Вопрос в том, упадешь ли ты вместе с ним, разделишь ли скорбную участь в урочищах окончательного забвения на дальнем берегу реки Стикс. И вот мой ответ: я объявляю демобилизацию, уклоняюсь от призыва, отбрасываю парадный нагрудник с устрашающим вензелем (где царственный муж змеи раздавить не сумел, а та, пригревшись, стала идолом). Бегу прочь: голый человек, у которого не осталось ничего, кроме ног и страха быть пойманным. Этот страх — вернейший спутник, и чтобы его изжить, нужно выжечь все имманентное, убить, а затем сотворить себя заново. Поражение ведет к свободе.
Впрочем, познав унизительные глубины этого поражения, едва ли можно насладиться его вольнолюбивыми плодами. Одиссей, которого я помню, — первооткрыватель, благой вестник, чародей; и странник новых времен — самозваный Робинзон из культового американского фильма, офисный тюфяк, медленно сходящий с ума и болтающий с угольной рожицей, намалеванной на лопнувшем футбольном мяче. Наглядное преображение: вместо чудес и бремени белого человека — просто бремя. Изгой вместо Творца, постмодернизм вместо Просвещения, никакой не Супербродяга — просто Марк, невротик, одиночка без отчества и фамилии. Что остается такому, с позволения сказать, герою, после того, как побег совершен, но сил на что-то большее уже не осталось? Парадоксальное одно: вернуться домой. Да, смоковницы на взморье выкорчеваны подчистую, Пенелопа забыла его лик, а Телемах — никогда не знал, и все же, все же... Надежда, говоришь ты, и я повторяю слово, которое суть ничто и весь мир.
Беда в том, что я странствовал невыразимо долго, как тот рыбак, слишком далеко ушедший в море. Тридцатилетний старик с усталыми глазами и белыми висками — я не помню, как выглядит Итака и была ли она вообще. Вокруг сибирская глушь, за плечами — пудовый рюкзак. Мое туловище грузно влачится морозной декабрьской обочиной. Знаю, что скоро Рождество, а больше — ничего. Слева заброшенная узкоколейка и бурелом без подлеска, справа — березовая гарь, скрывающая воронов с неподвижными стеклянными глазами. Черные эти птицы словно поджидают кого-то. Еще дальше — низина с доносящимся оттуда протяжным воем; это волки — их серые головы повернуты к низкому пасмурному небу, из пастей вырывается заунывный гимн, предвещая наступление лунной ночи — возможно, самой долгой в этом столетии. Дневной свет медленно гаснет. В зыбких неокончательных сумерках я пробираюсь все дальше — зажечь бы фонарь, но где ж его взять? Кругом лежат снега, и я бы пропал здесь совсем, кабы не волки да вороны — одни воют, другие глядят: неотрывно, жутко, заставляя губы мямлить полузабытые молитвы.
Я слышу шепот в голове, он как греза, как похмельный сон, пробуждает к жизни имена и названия... Уже близко, стоит только подняться на этот неказистый, заросший ельником холм, — к нему, точно к стольному граду, ведут все здешние дороги. Там, за холмом, расходится печными дымами поселок Тубинский, мой старинный товарищ протапливает баню, расставляет на столе индевелые штофы, опускает пихтовые веники в напоенную таежными ароматами кадку. Там, за холмом, меня обнимет бирюзовая даль обжитой улицы, где наконец погаснут ублюдочные фонари, а черные лунки психбольницы, встречая рассвет, зажгутся торжествующим пожаром. Там, за холмом, меня не поставят на учет, ночные кошмары растворятся в горячей заварке бабулиного чая, а мама и папа навсегда забудут плаксивое слово «развод». Там, за холмом, лежит волшебный Калаи-Хумб и, быть может, я встречу там тебя — терпеливого, как апостол.
Там, за холмом, шепчешь ты, — и Боже мой! — как я побежал, понесся, полетел к дому.
Пропала старческая немощь, суставы налились былой силой. Я сбросил постылый рюкзак, сорвал с головы шапку, так что волосы гривой рассыпались по плечам. Раз-два-три, все быстрее и быстрее, оставляя пологий склон, мимо расступающихся елок и обочин, угодливо бросающих под ноги крепкий снежный наст. Все так близко, славно, больше никаких прижимов — укатанная зимняя дорога в эту пору надежней любой федеральной трассы. Сердце бьется ровно, громко, в нем больше нет страха, неверия. Стерлись, растеряли гнетущую тяжесть осенние думы, словно и не было странствий сквозь воронку пытливо-пыточного одиночества. Все отступило перед стихией радостного бега, смехом незамутненной юности, рвущимся из груди победным гитарным аккордом.
Сейчас, сейчас увижу свою Итаку, утерянный дом, что всегда мечтал обрести вновь. Последний шаг — нет, прыжок! — вершина холма, миг между прошлым и будущим, удар сердца. Тик-так. По лицу хлестнул порыв ледяного ветра, я зажмурился, но тут же открыл глаза. Передо мной покоилось огромное заснеженное поле, чьи края тонули в чернилах спустившейся ночи. Бриллиантовая гладь прерывалась колеей дороги — та, плавно вихляя, уходила к черте сумрачной тайги. Дорогу давно не чистили, но след от санных полозьев отчетливо выступал под свежевыпавшим снегом — горбатые сугробы выпрямляли спины по мере удаления от этого неказистого знака людского присутствия. Дальше все было белым-бело, лишь кое-где торчали растопыренные артритные пальцы жухлой травы, не до конца скрытой погребальным саваном.
По полю, в направлении леса, вышагивали три кобылицы без седоков — на дороге им было бы легче, но они сторонились торного пути, чуя человека. Лошади фыркали, обдавая друг друга клубами морозного пара. Посеребренные гривы ниспадали до земли, жилистые ноги утопали в сугробах. Идущая впереди кобылица напоминала варяжскую ладью, рассекающую полночное море своей изящно выгнутой молочной шеей.
Шепот в голове смолк. Разъяснилось. Луна еще не взошла, но чистая северная звезда уже висела над моей головой, над удаляющимся лошадиным крупом, над диким полем. Свет проникал в снежные кристаллы, отражая лицо — мерцающее, многократно размноженное, будто подмигивающее мириадами призрачных глаз.
-
Август-Декабрь 2019,
Иркутск.
-
Все тексты сборника можно прочесть по ссылке: здесь